Елена Котова Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности
Редактор В. Ионов
Руководитель проекта C. Турко
Корректоры Е. Аксёнова, И. Яковенко
Компьютерная верстка К. Свищёв
Дизайн обложки Ю. Буга
© Елена Котова, 2018
© ООО «Альпина Паблишер», 2018
Котова Е.
Откуда берутся деньги, Карл? Природа богатства и причины бедности / Елена Котова. – М.: Альпина Паблишер, 2018.
ISBN 978-5-9614-4996-9
Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).
* * *
Введение
Англичане говорят, что время — деньги, а русские, что жизнь — копейка, как верно подметил поэт Вяземский еще в начале XIX века. Большой был остроумец. Но за этим его хлестким афоризмом — две разные системы ценностей: англичане и минутой дорожат, они богатство приумножают, а русским до денег вроде и дела нет, они даже не знают, что стоит их жизнь.
За последние 30 лет, однако, русские вполне оценили важность денег для жизни. А вот как их «делать», понимания пока нет. «Россия должна стать снова передовой страной, россияне заслужили достаток и достойную жизнь», — твердят все подряд, но на этой нехитрой мысли общее согласие и кончается. Дальше — агрессивные споры до остервенения. Государственники клянут рыночников, либералы — патриотов, спорщики клеймят друг друга ярлыками, размахивают надерганными цитатами, обрывками знаний. Правда, в одном они сходятся — все плохо!
Особенно горюют «мыслящие и образованные». С утра встанут и давай строчить во всех ресурсах, что жить невыносимо, а власти все погубили. А еще и народ винят — здрасте, приехали! Только попробуй сказать, что вообще-то мы движемся вперед, хоть и медленно, — стаей накинутся, назовут недоумком, хотя это же так естественно — каждый хочет гордиться своей страной. Нормальный человек из споров ничего не в состоянии вынести, чувствует только, что разговоры о политике достали.
Молодежь этой болтовни чурается, ей бы денег заработать… Но где путь к деньгам, никто не объясняет. В райцентрах европейской части страны мечта 20-летних девчонок — работа в собесе, 30-летние парни протирают штаны в военкоматах. В Бурятии и на Камчатке их сверстники, купив иномарку, заняты извозом туристов в сезон, ловят рыбу и валят медведей, продавая этим же туристам «дóбычу» и шкуры. Ребят оставили выживать. Без социальных лифтов и честной информации. Они не видят перспектив, у них нет «американской мечты».
Спорщики сказать этим ребятам ничего не могут, раз сами не в силах договориться. Только удивляются, глядя на молодых. Чего те вдруг принимаются поминать добрым словом Сталина? Ведь и не знают толком за что, лишь наслышаны от дедов, что уж при нем-то страна была великая. А то напяливают майки с портретами Гевары и даже Мао Цзэдуна, не ведая, за что произвели их в кумиры, просто нравится невнятно-бунтарская романтика. Что сделал Че Гевара, помимо того, что помог братьям Кастро искалечить Кубу? Нет ответа… Ребенок нынешних 20-летних спросит лет через пять-десять: «Кто такой дедушка Ленин?» — интересно даже, что родители скажут. Пробормочут что-то вроде: «Тот, кто устроил революцию, чтобы не было богатых». Но едва ли ответят, богатство — это хорошо или плохо. Видят, что государство постоянно что-то делит, при этом им самим мало что достается, и все. Живут, как и родители, будто на ощупь, не понимая, какой хотели бы видеть страну.
Общество, лишенное согласия и общих целей, — это уже диагноз! Люди не знают, откуда берутся деньги, и не понимают, почему простой достаток — вечная битва в одиночку.
Так почему же? Потому, что Россия — отсталая страна. Нам не нравится, что сегодня народ беден, но разве было по-другому? Моя свекровь из деревни на Орловщине повторяла: «Разуй глаза, мы так всегда жили, и хорошо жили». И это правда. Принципиально лучше, чем сегодня, мы не жили. Ни при Николае II, ни при большевиках, ни при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Горбачеве или Ельцине.
Можно верить дедам, что еще недавно Россия была первой по объему ВВП в мире — но так было лишь в сводках Госплана. Или что было изобилие — так оно было по талонам и трудодням. Можно считать, что вместо великой страны теперь у нас капитализм с нечеловеческим лицом — так у нас по крайней мере теперь есть частная собственность и нет рабского труда! А отсталость страны как была, так и осталась. Поэтому споры о том, как сделать Россию «снова» передовой, бессмысленны. Ее можно сделать просто развитой.
Причин отсталости России, как водится, три, и они давно сплелись в клубок.
Вечный поиск особого пути
В общественной науке в середине XX века, когда мир озаботился проблемой отсталости бывших колоний, появилось понятие «догоняющее развитие». Россия же принялась догонять передовые страны много раньше — еще Петр I прорубал окно в Европу. Все правители после него тоже пытались догнать страны по обе стороны Северной Атлантики, и получалось, прямо скажем, не очень… Потому что опыт тех самых передовых стран Атлантики считался непригодным для России. Из него выбирали только то, что нравилось, — «тут читаем, тут не читаем», тут меняем, тут не меняем.
Сначала хотелось сохранить самодержавие и помещичье хозяйство, хотя, как и в передовых странах, у нас уже полным ходом шла промышленная революция. Она была тоже догоняющая, но достаточно мощная. В стране складывалась полноценная независимая экономика, которую смела диктатура пролетариата. В итоге Сталин принялся за индустриализацию по второму заходу.
Следующие правители — Хрущев и Брежнев — были уверены, что производителем и распределителем может быть лишь государство. Оно раздавало всем по 90–150 рублей в месяц, ожидая, что каждый будет трудиться на совесть. Странная уверенность. Человек — рациональное ленивое животное, и ради какой-то совести трудиться ему совершенно несвойственно. Он работает только по двум причинам: ради денег или под страхом смерти в лагерном бараке. Лагеря отменили, денег не предложили — он и не трудился.
Догонять пытались. Деньги делить «по справедливости» — пытались постоянно. А сказать людям честно, что, прежде чем делить, надо научиться производить, не пытались. Будто деньги на деревьях растут. «Передовая» страна не могла самостоятельно даже колготки для наших матерей делать. Колготки покупали у заграницы, расплачиваясь за них нефтью, — уму непостижимо. Прилавки пустели, сводить концы с концами с каждым годом становилось все труднее.
На рубеже 1980–1990-х годов Великий строй с его плановой экономикой рухнул. Не потому, что его развалил какой-то Горбачев, а потому, что миллионы вышли на площади в страхе, что завтра будет нечем кормить детей.
Появился Ельцин. Рынок, свободные цены, приватизация, спешка: хоть начерно, но запустить развитие, иначе голод… И спасибо, что запустили. Правда, забыли про законы, не создали сразу все механизмы этого рынка. Народ, пребывая в иллюзии, что деньги растут на деревьях, возроптал: деревья, мол, достались только шустрым. Они и правда только им достались, пока остальные чухались. От ропота обделенных и от того, что шустрых не научили делиться, общество стало крениться набок.
Окрестив шустрых мерзким словом «олигарх», в нулевых им шаг за шагом принялись перекрывать кислород, раскулачивая строптивых и даже послушных — по необходимости. Государство снова решило, что только ему по силам осчастливить народ. Однако не только наше государство считает, что оно знает лучше самих граждан, что им нужно. У государства вообще есть такая склонность.
В результате сложился тот самый капитализм с нечеловеческим лицом, который мало кому нравится. Он не дает людям возможности заработать, ему не под силу догнать передовые страны. Но государство этого не признает, все пыжится и догоняет. При этом опыт тех, кого догоняем, опять, оказывается, нам не подходит! Круг замкнулся…
Внутренняя колонизация
Когда в 1950-х рухнул колониализм, обнаружилось, что в странах «третьего мира» общество распадается на современный и традиционный сектора. Современные слои стремились соединиться с миром империй, пусть даже и на вторых ролях, мечтая о модернизации. А рядом с современным сектором по-прежнему тихо пузырилось огромное традиционное болото, в котором никто ни о чем не мечтал, в нем можно было только выживать за счет опоры на касты, кланы, на старые порядки. Колониализм заблокировал извне формирование единого механизма развития стран «третьего мира», движок развития работал только в небольших анклавах, связанных пуповиной с империей. Пуповину разорвали, и наружу вылезла дуальность экономики — популярный термин в теориях развития.
Дуальность означает, что пространство бывшей колонии состоит из двух плохо сообщающихся сосудов. На то, чтобы тянуть всю страну вперед, мощности современного сектора хватило в мелких странах — от Сингапура до Южной Кореи. А в крупных, как Индия, Пакистан, Бразилия, модернизация захлебывается в инерции огромного традиционного сектора, в котором стереотипы, нормы, неписаные правила и привычные уклады жизни меняться не хотят.
Российская колонизация была внутренней. У нас калечили не какие-то заморские колонии, а собственную страну. Меньшая часть общества всегда грабила ресурсы другой, огромной его части. Это вранье, что между дворянами и их крепостными была патриархальная идиллия. Это было сожительство патрициев и рабов.
Потом возникла другая форма колонизации. Пара столиц и десяток крупных городов питались ресурсами нищей провинции. В одном «сосуде» сияли витрины изобилия, в другом сменяли друг друга голодоморы. Это большевистская и сталинская дуальность — снова между сосудами мало общего.
Возник новый разрыв двух противоположных реальностей. Один полюс — города, где на столе по праздникам осетрина и виноград, а на кухне в ходу рецепты из «Книги о вкусной и здоровой пище». Другой полюс — деревня, где работали за трудодни, где рождались сплошь рахитичные дети, где до середины 1960-х не было не только электричества, но даже и паспортов у граждан (!) страны. Иллюзия единства страны держалась на оболочке идеологии, которую вдалбливали старшим поколениям партийные профессора. Оболочка лопнула в 1990-х, и выяснилось, что в России на самом деле две страны!
Сегодня их по-прежнему две. Вопрос не в том, «есть ли жизнь за МКАДом». Она там есть. В традиционном секторе, в тысячах городов и городишек страны едят досыта, там есть мобильники, кока-кола и иномарки. Но оттуда по-прежнему не выберешься, там по-прежнему не заработаешь. Там нет грамотной рабочей силы, чтобы привлечь капитал современного сектора. Главная поддержка для людей — собственная среда, микросоциум.
С одной стороны — столица и крупные нефтяные или промышленные центры, с другой — Тамбов или Ржев, деревни, населенные пункты — слово-то какое! — Калмыкии или Алтая. В них все разное: технологии, ценность рубля, доступ к информации, понятия справедливости и закона. Тяжкий исторический багаж, который надо изживать, но к его анализу еще никто не подступался.
Брак мышления, подлинная «российская драма»
Вечный поиск особого пути развития — мы, дескать, другие! Опыт всех успешных стран — и Европы, и Америки — высокомерно отвергался. Мы раз за разом самоуверенно заявляли: «Ваши законы нам не указ». А законы-то экономические едины для всех — американцев, европейцев и прочих. Так вот, эта книга про эти самые законы. Про то, как они сработали в разных местах, как разные неглупые люди их применяли и как разные страны сумели вылезти из своего ничтожества — каждая из своего — и разбогатеть. Книга именно про это.
В поисках «особого пути» мы ничего заветного найти не сумели, зато породили страшный брак мышления. Сбой в головах и «мыслящих-образованных», и апатичного, аполитичного молодняка. Ум русского человека не зацепился ни за одно из важнейших событий в экономике и культуре тех стран, которые хотелось догнать.
Уроки Великой депрессии, из которой Америка вышла с окрепшей экономикой, — неинтересно… Послевоенное возрождение Германии — ну так это немцам деньги с неба свалились, Америка раскошелилась. На самом деле американская помощь Германии была размером 1,5 % годовых продаж нефти в России! Германия всего за 15 лет превратилась из страны, проигравшую войну всему миру, в одного из лидеров этого мира, а у нас все никакого «чуда».
Британия была страной замшелых аристократов, которые, как и Россия, жили памятью об имперском прошлом. Едва сводили концы с концами за счет поместий, пригодных только для праздных охот на несъедобных лис. За одно десятилетие страна преобразилась в общество хватких лавочников и капиталистов, у нации пропало презрение к слову «выгода». И это прошло незаметно для нас.
Америка, Германия, Британия не с потолка брали свои рецепты возрождения. За ними стояла экономическая наука — не только Кейнс, Фридман, Самуэльсон и пара десятков других, но прежде всего Маркс. Его экономическое учение изменило мир. Только весь мир от него изменился в одну сторону, а Россия — в другую. Недоучка из Ульяновска взял из Маркса лишь идею диктатуры пролетариата, по сути начхав на все открытые Марксом законы. Ленину они были не нужны. А диктатура пролетариата нужна — он же революцию затеял. Если об этом задуматься, то будет что сказать, когда ваше чадо спросит: «Кто такой дедушка Ленин?» — вам, кому сегодня двадцать пять. Хотя бы ради этого стоит подумать о Марксе, о Ленине, о тех, чьи портреты многие так любят носить на майках.
На протяжении всего XX века в странах Северной Атлантики открывали новые законы развития, которые двигали их экономику вперед. А в России эти открытия объявлялись лженаукой. Мышление нашего обывателя, который познает законы общества не из книжек, а из жизни, тоже оказалось заблокированным: он трудился либо принудительно, либо бесплатно — разница небольшая. Такая жизнь не побуждает думать, как создаются деньги. Это вопрос лабазника или промышленника, но никак не раба и не винтика в машине государства.
Лишь за последнюю четверть века, став наконец свободными, зато хлебнув рынка à la russe, люди шкурой поняли, что без денег — никуда, но объяснить, откуда они берутся в обществе, им никто не рвется. «Мыслящие», конечно, любят кивать на страны Атлантики, горюя, что у нас все не как у людей. Но объяснить нормальному человеку, каким непростым путем те нации нашли путь к собственному богатству, — это нет… Потому что по большей части сами толком не знают. «Оторопь берет, когда люди вполне культурные — и даже весьма — трактуют злободневную тему, — писал Ортега-и-Гассет еще в 1930-х. — Словно заскорузлые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для смягчения трудностей в двести раз легче»[1].
Отсталость не преодолеть в одночасье, но за последние 27 лет мы прошли не такой малый путь. Уже распробовали вкус и денег, и свободы. Свободы стало несравненно больше, чем при всех прежних кормчих, — это факт. Одни горюют, что свобод мало и все они какие-то не такие, о которых мечталось. А для других, для традиционного сектора, свобода вообще скорее обуза: все надо самим, а навыков нет. Поэтому у нас свобод ровно столько, сколько способен принять наш традиционный сектор. Истощенный внутренней колонизацией, отрезанный от внешнего мира, цепляющийся за ценности, которые достались, а не выработаны самими людьми. Так мы с места не стронемся. Уже пришло время думать самостоятельно. Нет смысла передавать нашим детям искалеченное сознание наших родителей.
Только сначала надо понять, о чем же все-таки речь. Чем различаются пути разных стран. Мыслителем становиться не обязательно, достаточно стать грамотным потребителем уже накопленных знаний, чтобы знать, что выбираешь. Ведь не штаны выбираешь, а жизнь. Материальную, духовную, интеллектуальную.
В этой книге — очерки о самых ярких страницах развития тех стран, которые мы догоняли. О том, как создавались богатства в Европе, Америке и в России, как работали «у них» и «у нас» механизмы развития. У нас есть выбор, его надо только осмыслить. Тогда и люди из просто «народа» сложатся в единую нацию, и общий путь к деньгам откроется.
«Капитал» Маркса — ключ к интриге мира
Влияние Маркса на мир так велико, что его сравнивают с Христом, Буддой и Магометом. Он открыл систему объективных законов, по которым развивается общество. Галилей, Ньютон, Эйнштейн тоже открыли объективные законы и тем самым, как и Маркс, изменили мир. Однако Маркса сравнивают не с ними, а с основателями религий. Будто он создал не науку, а веру.
Маркс четверть века выстраивал свое экономическое учение, с 1867 года, когда вышел первый том его труда Das Kapital. В то время реальный капитал овладевал миром, рождая электричество, железные дороги, все более современные машины. Рушил сословную иерархию, деля общество на два класса — капиталистов и рабочих.
Вопрос, откуда взялся капитал и каким образом он так мощно, кардинально меняет жизнь людей, интересовал в то время всех обществоведов и экономистов. Но только Маркс объяснил и свел в единую систему законы, по которым развивалось новое тогда общество. Попросту говоря, он объяснил, «как все это устроено», помог миру познать себя. Поэтому и можно говорить, что Das Kapital не просто ученый труд, а веха материальной истории! Ведь мир, познавший механизмы собственного развития, — это уже совсем другой мир.
Все оперируют понятиями Маркса, совершенно не задумываясь об их авторстве. Если сегодняшнему человеку начать объяснять, что же такое Маркс открыл, многие скажут: «Кто ж этого не знает!» — настолько все привыкли в обыденной жизни оперировать понятиями «капитал», «прибыль», «цена», «стоимость», «рента». Так мы привыкли к тому, что Земля крутится, но сложно сказать, как пошло бы развитие астрономии без Коперника и Галилея. То же самое и в экономике: со времен Маркса экономическая наука прошла огромный путь, возник целый ряд теорий, сравнимых по значимости с Марксовой, ученые достраивали учение Маркса, открывая законы, которые в его время, на заре капитализма, еще не проявились. Но ни одно из положений его учения не было оспорено, наоборот, все открытое Марксом стало данностью, и кажется, что это само собой разумеется и что так было всегда.
Однако, если бы Маркс только открыл законы капиталистического общества, было бы намного проще оценить его великий вклад. Мир двигался бы дальше с полным пониманием того, «как все устроено», ученые дополняли бы Марксову теорию объяснениями новых законов крепнущего капитала… Не было бы деления на марксистов и антимарксистов, не ставились бы дикие социальные эксперименты, связанные в умах людей именно с именем Маркса. Но все оказалось сложнее…
Мысль Маркса совершает необъяснимый кульбит. Он вдруг переворачивает все собственные утверждения с точностью до наоборот. Заявляет, что вся система, которая так слаженно движется по рельсам открытых им законов, почему-то должна неизбежно рухнуть!
Еще в 1848 году, задолго до труда Das Kapital, он написал политический памфлет «Манифест коммунистической партии», где утверждал, что система обречена. Потому что она построена на эксплуатации, с которой рабочие перестанут мириться. Они объединятся, отберут у капиталистов все средства производства, объявят их общенародной собственностью, и наступит гармония справедливости. А на самом деле понятие «эксплуатация» у Маркса весьма лукаво. Нет у него внятного объяснения, почему в капиталистическом обществе труд рабочих по найму — это угнетение. Он просто в это верил! Его социальная доктрина насчет краха капитала построена исключительно на этой вере, которая оказалась сильнее, чем его же собственная безупречная логика философа и экономиста.
Объявив, что все рухнет, Маркс решил детально объяснить, почему иначе и быть не может: надо же показать весь механизм адской системы угнетения. Но сколько бы он ни твердил об ужасах капитализма, картина в Das Kapital складывается ровно обратная: развитие капиталистического общества противоречиво, как и любое развитие, но капитал вполне справляется с разрешением собственных противоречий, причем именно при помощи открытых Марксом законов. Сам Маркс этого видеть не хочет и, заглядывая в будущее, утверждает, что противоречия общества, построенного на капитале, неразрешимы. Все рухнет, и точка! Его социальная доктрина повисает в воздухе, под ней нет логических подпорок. Только все та же вера самого Маркса и его приятеля Энгельса.
С какой готовностью масса людей подхватила эту веру! Последователи Маркса, даже обчитавшись четырьмя томами Das Kapital, дружно отмахиваются от Марксовых экономических законов и бубнят, что марксизм — это учение о диктатуре пролетариата.
У марксистов эта вера вызывает восторженные революционные судороги. У всех остальных — дрожь: им совсем не нравится идея, что общество, основанное на таких безупречно логичных законах, может рухнуть. Великие ученые, финансисты, политики — Кейнс и Фридман, Франклин Рузвельт, Людвиг Эрхард и Маргарет Тэтчер — считают марксизм исчадием ада. Помогают капиталу разрешать его противоречия, чтобы не допустить никакой пролетариат к диктатуре. Делают вид, что Маркс ничего не открыл, кроме банальностей, типа «а небо-то голубое». Однако от самих законов, открытых Марксом, не отмахиваются, наоборот, используют на полную катушку. Правда, об авторе при этом умалчивают, вроде как законы миру сами по себе открылись. А Маркса поминают лишь в связи с его верой! Когда хотят припугнуть людей той диктатурой пролетариата, которая у Маркса вдруг выскакивает как черт из шкатулки. Вот замутил Маркс, сам все открыл, и сам же все запутал.
Если отодвинуть в сторону его заклинания и вникнуть только в экономический механизм, который он разложил по полочкам, выстроится понимание общей системы, которая работает и в передовых странах Атлантики, и в новых развивающихся экономиках, и в России. Das Kapital самым детальным образом показал, откуда берутся деньги и как они рождают личное и общественное богатство.
На это иногда возражают, что сложные системы невозможно описать одной моделью. Ерунда! Надо просто уметь видеть общее для любой экономики и особенности каждой из стран. Не путать одно с другим. И кстати, именно Маркс научил человечество, как это делать…
Не так просто, как кажется
Реальная жизнь ошеломляет разнообразием… Кажется, что между производством удобрений, металлургическим комбинатом, банком и среднего размера супермаркетом нет ничего общего, надо отдельно изучать и то, и другое, и третье. Надо, если вы хотите управлять этими разными производствами. А для того, чтобы понять, как устроена экономика, надо лишь увидеть, что общего между ними.
Все понимают, что такое инвестиции, то есть капитал. Что такое себестоимость, доход. Хоть на большом производстве, хоть в мастерской — один и тот же бухгалтерский учет. Если бы все производства в сути своей были бы разными, то как можно было бы судить в бухгалтерских книгах о прибыли и убытках по одним и тем же правилам? Это возможно лишь потому, что в основе своей все производства одинаковы. Это капитал в его трех формах — производительный, торговый и банковский. Это и есть основа экономики Германии, Великобритании, США, хотя конкретика, реалии жизни в этих странах сильно различаются.
Конкретика всегда интереснее абстрактных рассуждений. Поэтому третий том Das Kapital читать не скучно. В нем Маркс объясняет множество знакомых нам явлений современной жизни. Тут и акционерные общества, и биржи, и монополии, и технический прогресс… Тут и кризисы, и превращение национального капитала в международный. Все живенько, близко к телу, интересно, что будет дальше. Местами даже похоже на триллер. Не триллер, скажете? Тогда объясните-ка, почему самая прибыльная отрасль у нас нефтянка? Какие такие законы в ней действуют, что производить нефть выгоднее всего?
Человек, не ведающий о труде Das Kapital, похож на автолюбителя-чайника. Вроде знает, что машина едет туда, куда руль повернешь, иногда даже и масло поменять может, но как разобрать и починить двигатель — это нет. А вот тот, кто понял законы и взаимосвязи, открытые Марксом, — уже инструктор или даже конструктор авто. Этот понимает, на что способна машина, может генерить новые идеи, как ее усовершенствовать. На протяжении сотни с лишним лет автомобиль непрерывно менялся — новые body design возникают каждые несколько лет, усложняются приборы, ручную коробку передач сменяет автомат, но это все тот же автомобиль. Его сердце — двигатель внутреннего сгорания, разновидность теплового двигателя.
Тянет сказать, что сегодня все по-другому, а изменилось-то не многое. При Марксе не было самолетов, а сейчас нет воздушных шаров. Но сила тяготения была и есть. И капитал, который тянет вперед общество, если оно не сопротивляется его законам, тоже никуда не делся. Автомобиль может превратиться в самолет, если приделать к нему крылья, или в ракету, если использовать другой тип теплового двигателя. Но основа-то одна — тепловой двигатель, который толкает вперед хоть автомобиль, хоть самолет, хоть ракету.
И конструкцию автомобиля, и его двигатель Маркс разложил по винтикам. Уже в первом томе Das Kapital, где про «товар — деньги — товар»… Тут, правда, студентов начинало клонить в сон: зерно меняется на сукно, холсты на сюртуки — какое отношение это имеет к современной жизни? И уже не поверить, что к третьему тому все сложится в триллер. Уж больно медленно, по шагам Маркс складывает из этих абстрактных картинок двигатель общественного устройства, как машинку из кубиков Lego. Объясняет, что в основе двигателя всегда лежит человеческий труд, не важно, ручной, интеллектуальный или управленческий. На это — если попросту — можно сказать: «Постойте, а как же машины, оборудование?» Ясно, что без труда они мертвы и ничего сами не произведут, но ведь и труд без машин тоже ничего не произведет. Это если попросту. А Маркс терпеливо объясняет, что любой станок, хоть сложный, хоть простой, даже кирка для того, чтобы руды накопать, — это плоды прошлого труда. И вся интрига мира на самом общем уровне сводится к тому, как именно труд сегодняшний соединяется с трудом прошлым и почему в одних странах это получается более эффективно, чем в других.
Например, в Норвегии ВВП на душу населения — 97 тысяч долларов в год. В каком-то Люксембурге, где и производят-то неизвестно что, еще выше. В Штатах — 60 тысяч на нос, в Германии — 42 тысячи. В России — чуть больше девяти. Россияне живут сегодня лучше, конечно, чем лет 30 назад, но почему они настолько беднее норвежцев или немцев? Почему в России так медленно идет технический и технологический процесс, а от слова «модернизация» уже всех воротит: все о ней говорят, но никто не видел ее плодов. Почитаешь Маркса, и становятся ясны причины отсталости России, хотя о ней Маркс не сказал ни слова.
Всех, кто постарше, в институтах от марксизма тошнило. Понять, как вера уживается с законами, из которых она не вытекает, было невозможно, приходилось просто зубрить. Мешанина из законов и заклинаний о благе диктатуры пролетариата настолько ничего не объясняла, что к концу XX века преподавание политэкономии отменили за ненадобностью. Отменили-то правильно, но попутно сдали в утиль и экономическое учение Маркса. Лишив тем самым современных людей возможности понять устройство экономического механизма. Вот все и рассуждают о прибыли, цене, рентабельности, рынке и прочих экономических материях «на пальцах». А по каким законам рынок с его прибылью, ценами и всеми остальными атрибутами движет общество? И куда движет?
Сознание современного человека надо заново подружить с трудом Das Kapital Маркса, ведь открытые им законы действуют и сегодня, объясняя все устройство общественного механизма. Что «у нас», что «у них», в передовых странах Атлантики. Не поняв его, сложно рассуждать и о кейнсианстве, и о том, чем монетаризм Фридмана отличается от общества «благосостояния для всех», которое в Германии строил Людвиг Эрхард. Не поставить на твердую основу споры о переустройстве России, перестав размахивать ярлыками — «рыночник», «государственник», «социальное партнерство» и «эксплуатация», которые уже набили оскомину.
Самый ключевой закон
Еще до Маркса люди своими глазами видели, как растут богатства, но объясняли этот рост по-разному. Сходились в одном — все капиталисты захвачены конкуренцией, это лежит на поверхности. Экономисты, писал Маркс, переводят «своеобразные представления капиталистов, захваченных конкуренцией, на якобы более теоретический… язык», их утешает, что прибыль общества растет, «но и это утешение покоилось на одних общих местах… Как в конкуренции, а следовательно, и в сознании ее агентов все выражается в искаженном виде; точно так же искаженно выражается в конкуренции и в сознании ее агентов и этот закон…»[2]
Этот закон — закон тенденции нормы прибыли к понижению. Можно сказать, ключевой закон. Норма прибыли понижается, а ее объем, или масса, растет. Этот парадокс не объяснить, скользя взглядом по поверхности и видя только конкуренцию. А в этом ключ к пониманию развития капиталом общества.
Маркс объяснил, что капитал делится на постоянный и переменный. Постоянный капитал — стоимость машин. Переменный — стоимость рабочей силы. Такие названия он дал этим двум частям капитала не случайно.
Использование машин продиктовано технологией, они участвуют в производстве целиком, и стоимость этой части капитала в процессе производства не растет, а, наоборот, уменьшается — ведь идет износ. Отсюда и слово «постоянный». К этой части капитала надо добавить и вторую — которая позволяет капиталисту купить рабочую силу. И вот вопрос о том, сколько она стоит, до Маркса всегда был камнем преткновения.
Стоит она ровно столько, сколько нужно рабочему, чтобы прожить, — заплатить за еду, жилье, одежду, прокормить и выучить детей: ведь будущему капиталу потребуется рабочая сила следующего поколения. Но ведь и есть, и одеваться можно по-разному, жить можно в тесноте и без удобств, а можно и в комфорте. Маркс не вычисляет, сколько нужно денег рабочему «объективно», потому что такого понятия нет и вычисления тут не помогут. Но Маркс объясняет принцип: как стоимость, которую производит труд рабочего, делится между ним и капиталистом.
Допустим (условно), что среднему рабочему на прокорм семьи нужно 1000 долларов в месяц, это и будет стоимость рабочей силы. Попросту — зарплата рабочего. В месяце 4,5 недели по 40 часов, итого — 180 рабочих часов. Если за один час рабочий способен произвести продукт стоимостью 10 долларов, то за месяц он произведет стоимость 1800 долларов. Свою тысячу зарплаты он создаст за 100 часов, значит, остальные 80 он будет бесплатно трудиться на капиталиста.
Все это время рабочий будет создавать для него прибавочную стоимость. То есть он создаст стоимость большего объема, чем та часть капитала, которую на него потратили. Потому Маркс и называет эту часть капитала переменной, что в процессе производства она — в отличие от капитала, вложенного в станки, — растет. Получается, что без рабочей силы не будет роста капитала. А если среднему рабочему на прокорм надо не 1000 долларов? Мы же взяли эту цифру с потолка, подогнали, короче, цифры.
Так в том-то и дело, что если рабочий в час способен произвести только на 5 или 7 долларов, то и общественная стоимость рабочей силы будет ниже, чем тысяча: капиталист же в любом случае должен свое отмусолить, иначе зачем ему рабочие, если у него в итоге только бульон от яиц. А если в час рабочий производит стоимость в 15 или 20 долларов, то стоимость рабочей силы может подняться до двух или двух с половиной тысяч в месяц. Прямой корреляции тут нет, потому что в конкретной жизни в процесс вмешиваются и переговоры рабочих с капиталистами, и политика. Рабочий может бесплатно трудиться на капиталиста не 80, а только 40 часов в месяц или, наоборот, все 100…
Стоимость рабочей силы определяется не вычислениями, а отношениями слоев и классов в обществе, их торговлей друг с другом, их взаимными компромиссами. Но если рабочий производит только 5 долларов в час, то, скорее всего, в таком обществе нормой будет считаться, если он спит на тюфяке. А когда он производит — условно — 20 долларов в час, да еще и капиталиста заставляет отмусоливать себе не 800, а только 700 или 650 долларов от каждого отработанного месяца, то нормой становятся две машины у собственного дома и отпуск у моря. Кажется, что это только торговля, переговоры между двумя классами, но и это не так просто, как кажется. Прежде всего стоимость товара «рабочая сила» определяется производительностью ее труда. Она меняется, растет в каждой стране по-разному, дает каждой стороне — капиталисту и рабочему — разные рычаги торговли друг с другом. Маркс утверждал, что противоречие между капиталом и трудом неразрешимо, а на самом деле оно решается на каждом этапе и в каждой стране. Но общий-то принцип не меняется. Если это понять, то становится ясно, почему в Норвегии ВВП на душу населения выше, чем в США, а в Германии — выше, чем в России: переменный капитал в каждой из этих стран работает с разной производительностью.
Тянет сказать — на пальцах-то, — что производительность растет под давлением конкуренции. Правильный, но неубедительный ответ. Как конкретно конкуренция помогает производительности расти? Вот тут на авансцену выходит закон тенденции нормы прибыли к понижению.
В нашем условном примере один рабочий за месяц производил 1800 долларов, из которых 800 долларов становились прибылью капиталиста. Это в среднем, в обществе. Но если за этот месяц в одной отрасли постоянного капитала расходуется 4000 долларов, а во второй — 8000 долларов, то в первой отрасли норма прибыли будет 20 %, а во второй только 10 %. В отраслях, где доля живого труда выше, выше прибыль. Ведь там выше доля той части труда, которую капиталист не оплатил.
В отрасли № 1 — швейной, к примеру, — требуется меньше станков и больше рабочих, чем в отрасли № 2 — производстве стиральных машин. Значит, в швейной отрасли будет выше норма прибыли, это вполне согласуется с жизненными наблюдениями. Трудоемкие отрасли более рентабельны, чем капиталоемкие. Видя это, капитал стремится именно в отрасль № 1, в ней растет конкуренция. Думая, как выжить, капиталист решает применять новое оборудование, производит новые ткани, например полиэстр вместо шелка, он дешевле. Оборудование, правда, придется покупать более дорогое, зато затраты на производство одного платья понизятся. Вроде бы норма прибыли должна от этого вырасти? А она-то как раз снизится, потому что оборудование подорожало, значит, отношение переменного капитала к постоянному снизилось. Зато выросли и абсолютный масштаб производства, и объем общей прибыли. А капиталист попутно модернизировал швейную отрасль № 1, да еще и себестоимость единицы товара понизилась, что мы тоже знаем из жизни — синтетическая одежда все больше теснит дорогие вещицы из шелка и шерсти.
В отрасли № 1 изменилось строение капитала, то есть соотношение постоянной (оборудования) и переменной (рабочей силы) частей. «Стоимостное строение капитала, поскольку оно определяется его техническим строением и отражает это последнее, мы называем органическим строением капитала… Капиталы, которые содержат больший процент постоянного и, следовательно, меньший процент переменного капитала, чем средний общественный капитал, мы называем капиталами высокого строения…»[3]
Теперь уже в отрасли № 2 строение капитала ниже, а норма прибыли выше, хотя вчера было наоборот. Норма прибыли во второй отрасли выше? Все повалили в нее!
В отрасли № 2 начинаются те же процессы… Капиталы конкурируют, изобретают новые прибамбасы для стиральных машин. В этой отрасли растет органическое строение капитала, то есть «стоимостное строение, которое определяется техническим»[4]. Она становится более капиталоемкой, норма прибыли в ней снижается, а объем производства и прибыли растут. Пятьдесят лет назад стиральные машины были у единиц, сейчас они в каждой семье.
Тут выясняется, что есть еще третья, пятая, двенадцатая отрасли, в которых низкое строение капитала помогает каким-то недоумкам получать более высокую норму прибыли. Немедленно туда! Снова изобретать, совершенствовать… И душить, душить недоумков! Вот, собственно, откуда и берутся деньги. Все просто.
«Низкое строение капитала» — это когда отношение капитала, затраченного на покупку рабочей силы, к капиталу, воплотившемуся в оборудование, ниже, чем в среднем в обществе. Капитал стремится в такие, менее капиталоемкие отрасли и тут же поднимает их капиталоемкость! Казалось бы, против собственных интересов модернизирует сначала одну отрасль, потом другую, третью… Каждый согласится, что лет 12 назад плазменные телевизоры стоили 300–350 тысяч рублей, а сегодня 100, а то и 60 тысяч, а это объяснить можно только снижением нормы прибыли и себестоимости. А себестоимость снижается за счет более современного оборудования, сокращения расходов на переменный капитал и, значит, опять-таки за счет снижения нормы прибыли. Вот так парадоксально все и крутится!
Тогда как же сфера ИТ, где пацаны в трениках из всего постоянного капитала одним компом обходятся? Там самая высокая конкуренция, все туда рвутся, чтобы делать деньги, обходясь только трениками и компом. Но стоило Гейтсу, а потом Джобсу зайти в эту отрасль с огромным капиталом, как лицо отрасли изменилось. Огромный капитал позволил создать и новую операционку, и новые приложения. И пацаны, хоть нередко и заколачивают огромные деньги, остались на подтанцовке, конкурируя только за продажу «Майкрософту» и «Яблоку» отдельных примочек.
А как же нефтянка, где капиталоемкость колоссальная — и буровые, и нефтепроводы, — а норма прибыли тем не менее сумасшедшая? Так у нас же триллер, забыли?
Труд — отец богатства, а природа — его мать…
Кстати, а почему все не рвутся в сельское хозяйство? Трудоемкую и относительно низкокапиталоемкую отрасль? «На пальцах» ответ прост — нет дорог, хранилищ, сетей сбыта. Ну хорошо, это у нас. А в других, передовых странах, где все это есть? Да потому, что земля конечна! Можно сделать неограниченное количество станков, изобрести массу новых приложений для компов, никто не мешает. А землю из-под земли не достать, пардон за каламбур. Ее можно купить, конечно, но стоит она о-го-го сколько, а это тот же капитал. И за видимостью, что агробизнес — отрасль исключительно трудоемкая, скрыта земля. Именно она при сравнительно скромных остальных вложениях дает возможность труду создавать огромную стоимость.
Маркс объясняет, что собственники земли могут стричь с нее купоны — земельную ренту. Если они сдают землю в аренду, рента — это арендная плата. Если у них свое производство, рента — это та дополнительная стоимость, которую к труду добавляет земля. Природа.
В нефтянке то же самое. Месторождений мало. Нефтяники получают ренту с владения природным богатством. Окупаются и буровые, и нефтепроводы, и еще остается огромная прибыль. То же с алюминием, кобальтом, золотом. Владение месторождением — это естественная монополия, и именно Маркс показал, как вычленить в прибыли созданное трудом и дарованное природой.
Конечно, нефтяники конкурируют между собой. Если их месторождения сопоставимы, то… Снова в игру вступает ключевой закон тенденции нормы прибыли к понижению. Идет внедрение более передовых и капиталоемких способов добычи, которые, с одной стороны, понижают норму прибыли, а с другой — позволяют использовать месторождение намного дольше и добывать нефть дешевле. Так что и в отраслях с естественными монополиями ключевой закон работает. Но главное тут — ограниченность природного ресурса. Кто сумел захватить, купить лучшие месторождения — тот на коне. Просто? Да уж, несложно. Когда Маркс вам все объяснил.
Как же насчет конкуренции?
Технический прогресс обходит Россию стороной. В экономике всех передовых стран постоянно идет модернизация — под действием закона понижения нормы прибыли. У нас же она никак не желает начаться: с конкуренцией напряженка.
Иностранный капитал мы не очень-то любим. В «стратегических отраслях» у нас в основном государственные компании, которым конкурировать незачем и не с кем. Но главное — Маркс объяснил и это — для конкуренции и свободного «перелива капитала между отраслями» (его выражение) нужна мобильность факторов производства.
Свобода перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг — сегодня в Евросоюзе их называют «четырьмя свободами» — ключевое понятие развития. Свобода капитала позволяет ему вкладываться туда, где ниже затраты или где выше прибыль. Свобода рабочей силы дает ей возможность переезжать с места на место, работать там, где на нее выше спрос и зарплата. И товарам, и услугам тоже нужна мобильность, чтобы оказаться там, где они востребованы.
С четырьмя свободами у нас однозначно беда. Попробуйте вместо Ярославля, где вы производите, к примеру, шины, открыть такое же производство, скажем, в Кургане, потому что это дешевле, чем отгружать в Курган шины из Ярославля. Для начала надо закупить новое оборудование за границей — а это налоги и таможенные сборы. В Кургане надо с нуля научить рабочих на нем работать, по второму разу купить чиновников, налоговую и пожарников. Подумаешь и скажешь: «Ну его к лешему».
Громадная территория и неразвитая инфраструктура — железные дороги и автотрассы — мешают эффективному перемещению товаров, сырья и оборудования к местам спроса. Масса россиян не видит перспектив заработка потому, что туда, где они живут, не идет капитал, а сами они немобильны. Дай бог, если пара миллионов из 80 млн активного населения поменяют место жительства ради новой работы, чтобы найти деньги.
Все это знают, только что из того? Иностранный капитал пускать «куда ему вздумается» — опасно. Приватизировать землю и продать ее капиталу, чтобы он на ней развивался, — ни-ни. Недра, месторождения? Только в горах Забайкалья зарыта вся таблица Менделеева, но подпустить к ней капитал, особенно иностранный, — упаси господь, это распродажа Родины. Инфраструктуру развивать — денег нет. Так их и нет, потому что государство сидит на своем богатстве, как собака на сене, у него самого нет денег, чтобы освоить что недра, что землю. Модернизация кончается, не начавшись. Оставаясь только в федеральных программах… Марксов закон тенденции нормы прибыли к понижению, который парадоксальным образом заставляет капитал увеличивать производство и объем прибыли, а значит, и ВВП на душу населения, требует конкуренции. А она работает тем полнее, чем выше мобильность всех факторов производства. Это, пожалуй, главное — если попросту, — что вытекает из этого закона для понимания нашего сегодняшнего устройства.
Банки и ростовщики
Вслед за промышленным капиталом, вслед за земельной и в целом природной рентой Маркс анализирует не менее пристально банки, разбирает по винтикам и эту форму капитала. Когда мы наблюдали, как внутри одной отрасли меняется строение капитала, мы видели конкуренцию. А вот между отраслями конкуренции нет, производство ботинок не конкурирует с производством вертолетов. Точно так же, пишет Маркс, не конкурируют промышленники с банкирами. Между ними другие отношения — добровольная дележка.
Банковский капитал ничего не производит, он существует в виде денег, которые не превращаются в товар, попутно добавляя к нему новую стоимость. Банк всего лишь дает кредит промышленнику, а уж тот превращает эти деньги в капитал. На заемных деньгах его производство растет быстрее, чем если бы промышленник крутился только на собственном капитале.
Для банка же его деньги — капитал с самого начала, раз они приносят прибыль в виде процентов. Но банк ничего не производит, откуда проценты? Маркс объясняет: прибылью с банком делится промышленник.
Все формы общественного капитала — торговый, банковский, промышленный — и сами развиваются, и друг другу дают такую же возможность. Эта рациональность развитого капитала отличает его от тех форм капитала, которые Маркс называл «допотопными», — торгового и ростовщического. Хотя на поверхности явлений кажется, что банкир — тот же ростовщик. А разница принципиальная…
Капитал в его примитивных формах — торгового и ростовщического — накапливался со Средневековья, незаметно меняя жизнь Европы. Торговый капитал немецких ганзейских городов — чего стоят одни Бременские ярмарки! — доставлял по торговым путям экзотические пряности, пряжу, золото и еще массу товаров. Рядом с ним — ростовщический капитал, который менялы-евреи, жившие в Европе еще с Рождества Христова, поставили к XV веку на широкую ногу… Людям всегда хотелось больше денег, они торговали, ссужали, искали прибыль где только можно. Но торговый и ростовщический капиталы существовали в системе совсем других отношений, докапиталистических.
Торговый капитал вез на рынок товары, которые были вне конкуренции, никаких аналогов в Европе местные промышленники произвести не могли: мануфактур, фабрикантов мало, свободного труда еще нет — крестьяне по большей части еще привязаны к земле. Ростовщик не знал удержу в своем желании получить как можно больше. Его не заботила судьба должника. Он давал в долг расточительному вельможе, зная, что в случае чего заберет его драгоценности и экипаж. Давал и мелкому ремесленнику, зная, что, если тот разорится, он заберет за долги его мастерскую. И крестьянину давал, хоть тот мог быть обвешан податями и было ясно, что долг он вернуть не сможет. Так ростовщик заберет его клочок земли. Он всеяден в своей страсти урвать здесь и сейчас, а там хоть потоп и умри все живое.
Не было простора для конкуренции, пока одна за другой не стали происходить буржуазные революции в XVII–XVIII веках, а в середине XIX века не начались промышленные революции. Вот тут мир изменился кардинально, возник общественный капитал, который все свои формы — промышленный, торговый, денежный, то есть банковский, — заставил жить по единым законам. Как только сложились единые для всего общества пропорции нормы прибыли, стоимости рабочей силы — то есть рыночные цены на все товары, тут все допотопные формы капитала либо переродились, либо сгинули.
Банковский капитал — в отличие от ростовщика — всегда знает свое место в дележке денег заемщика, кем бы заемщик ни был — промышленником или обывателем, явившимся за ипотечным или потребительским кредитом. Его интерес не в том, чтобы побольше процентов содрать, а в том, чтобы побольше денег ссудить. И сегодня, и завтра, и через год. Чем меньшую часть прибыли он отнимет в виде процентов у промышленника, тем больше у того вырастет производство. Значит, заемщик сможет взять еще больше кредитов, снова расширить производство и снова взять больше кредитов. Он произведет больше товаров для покупателей, а те захотят немедленно все это купить и тоже побегут за кредитами.
Человеку всегда кажется, что проценты банков бесстыже высокие — берешь же чужие деньги, а отдавать надо собственные. У всех свеж в памяти кошмар, пережитый валютными ипотечниками в 2015 году. Люди звонили друзьям в ужасе: «Что делать?! Мне нечем платить ипотеку — рубли обесценились! Квартиру отбирают!» Перед банками стояли пикеты…
В передовых странах банки нянчат своих заемщиков, готовы мусолить их проблемы, давая отсрочки, растягивая сроки погашения кредитов. Им сто лет не нужно их имущество, взятое в залог, им надо вернуть свои деньги и снова дать их в долг — даже тому же неудачливому заемщику: они каждым клиентом дорожат. В России, где общественный капитал толком не сложился, сплошь и рядом встречаются банки-живодеры. Кредитуют всех подряд, не считая риски, просто задирая ставки процента. Принимают серые и левые документы. Случай из жизни: менеджер банка спрашивает клиента, который пришел за кредитом, сколько тот получает. Клиент говорит — 80 тысяч в месяц. А официально? Двадцать, остальное в конверте. И тут менеджер банка — не дядя с улицы! — просит клиента принести справку о зарплате, где были бы указаны именно 80 тысяч. Клиент, недолго думая, идет в бухгалтерию, где бухгалтерша — тоже недолго думая — выдает ему справку. Через полгода предприятие принимается резать серые зарплаты. Клиент не в силах платить кредит, и мало того, что банк отбирает у него купленную в кредит машину, на него еще заводят уголовное дело о мошенничестве за подлог документов.
Менеджер банка разве не понимал с самого начала, на что он толкает клиента? Не понимал, что серые деньги в конверте — штука такая, которая сегодня есть, а завтра может исчезнуть, и никто за это не в ответе? Понимал… Но ему было плевать — типичное поведение ростовщика. А клиенты разводят руками: «А что? Все так делают». Не предвидели и не могли предвидеть обвала рубля. Не понимают, что и серые конверты, и шаткость рубля им же и обернется боком.
Такие случаи кажутся массовыми, но это тоже видимость, банков-ростовщиков с каждым годом остается все меньше. Вымирают, как мамонты… Настоящие же банки и ведут себя рационально: дают кредиты только тем, кто точно сможет их вернуть. Кто брал кредит вчера и вернул его, тот сделает то же самое и завтра. Только так банковский капитал может сам расти. У него нет цели пустить должника по миру, залог — это лишь страховка на крайний случай, непрофильный актив для банка. Это не заработок, а лишняя головная боль.
Ставки российских банков кажутся бесстыдными, а это оборотная сторона неустойчивого положения заемщика. Мелкий бизнес зажат между поборами, бандитами и ментами. Сырьевые предприятия зависят от мировых цен на нефть, алюминий, сталь… У частных заемщиков зарплата неустойчивая. Все эти риски банки закладывают в величину процента. Для первоклассных заемщиков банк может накинуть 1 % к той рыночной цене, по которой он сам брал деньги, а менее солидным — добавить и 6 %, и 8 %. В итоге могут получиться те самые 15 %, которые так возмущают россиян. Вопреки представлениям обывателя, что банки «жируют» больше остальных, на самом деле они довольствуются весьма скромной прибылью — той самой «маржой». Она и происходит-то от слова «маргинальный» — то есть крайний, самый малый.
Так что же, если копнуть, получается, что капиталисты и банкиры люди весьма справедливые? Промышленный капитал против воли движет вперед технический прогресс, хотя это оборачивается для него снижением нормы прибыли. Банковский капитал довольствуется умеренной маржой, чтобы поддерживать своих должников в здоровом состоянии.
Увидеть суть вещей за внешней оболочкой непросто. Если прибыли крупных компаний растут из года в год, трудно понять, как это при этом норма прибыли снижается. Если человек каждый день сталкивается со ставкой 14–15 %, он считает, что банк бесстыдно наживается на людях.
Маркс изменил мир тем, что копал вглубь, вскрывая сущности, которых на поверхности не разглядеть. Все виды доходов капиталистов он разложил по полочкам, показав, что капиталисты с рабочими и друг с другом всегда рассчитываются на основе эквивалентного обмена.
Что это за зверь, Маркс объяснил еще в первом томе своего труда Das Kapital, и прямо скажем, это точно не триллер. Объяснение скучное, как анатомический атлас. Убедить человека вникнуть в него можно лишь в том случае, если тот поймет, зачем ему нужно знать такую «нутрянку». Лучше мы сперва до конца разберемся с тем, что живенько и близко к телу. С еще одним законом, о котором Маркс пишет именно в третьем томе, — законом всеобщего накопления капитала. Он и сегодня создает общественное богатство, и даже в повседневной жизни легко разглядеть, что действует он точно так же, как и во времена Маркса.
Накопление «несправедливости»
Всю прибыль, которую капиталист не считает нужным потратить на себя — а в здоровом предприятии это обычно не меньше половины ее объема, — он вкладывает снова в производство, потому что противостоять тенденции нормы прибыли к понижению он может только за счет роста масштабов производства. Объем ВВП каждой страны зависит от эффективности накопления капитала. Сравните: ВВП России — 1,4 трлн долларов, а ВВП только одного Нью-Йорка — 1,2 трлн.
На долю частного капитала в нашей стране приходится около 50 % ВВП. Это одно из достижений нашего развития за последнюю четверть века. Но наш частный капитал — сравнительно небольшие и отсталые компании и банки. Ускоренно расти, накапливать капитал им крайне сложно. Наши банки кредит могут дать на 2–3 года, они сами некрупные и не могут ждать 5–7 лет, как банки, кредитующие промышленность в странах Атлантики. А что такое — кредит на пару лет? Просто несерьезно. Ведь предприятие его берет, чтобы купить, смонтировать, запустить новое оборудование, произвести и успеть продать дополнительный объем товаров, а ему уже через год половину кредита нужно отдать. Нереально! Конечно, предприятия все равно набирают кредиты где только придется — наше русское «авось», перекрутимся, мол. На крайний случай всегда можно договориться с банком и отдать ему закредитованное предприятие за долги. Примерно как ростовщику. А зачем банку предприятие? А ни за чем, только для того, чтобы снова продать. С дисконтом. Возможно, даже тому же самому промышленнику. Все при делах, все при деньгах. Только это, сами понимаете, совершенно иная история, чем развитие экономики и накопление капитала.
Маркс объяснил, что действие всеобщего закона накопления капитала толкает капиталы на объединения в акционерные общества. Сегодня это главная форма существования капиталов, только и тут в России всё «по-особому». Акционерки делают только со своими. Чужака пустить? Так, может, он затем в дело и лезет, чтобы его потом изнутри отобрать. Корпоративные войны нам тоже уже знакомы — кстати, сами по себе враждебные поглощения предприятий легитимны во всем мире. Только ни в одной стране, кроме нашей, уголовка в такой борьбе акционеров — не инструмент, а у нас статья 159 УК — «Мошенничество» — стала самым ходовым способом отъема бизнеса одним акционером у другого.
Вообще по части дележки — будь то между акционерами или между промышленниками и банками — у нас такая же беда, как с конкуренцией и мобильностью факторов производства. Вечные скандалы, переходы бизнесов из одних рук в другие при весьма странных обстоятельствах портят инвестиционный климат в стране до отвратительности. Иностранный капитал это отпугивает не меньше, чем хлипкие законы о защите собственности и произвол государства.
Те, кому за сорок, наверняка помнят медиаимперию Владимира Гусинского. В ней осели деньги Газпрома, Таможенного комитета, бюджета Москвы. Банк главного акционера медиаимперии попросту не перечислял деньги туда, куда они должны были попасть, оформляя с этими госструктурами задним числом кредитные договоры. Может, это бы государство терпело еще долго, но медиаресурсы главного акционера взяли себе за правило кошмарить власть — главный акционер считал, что так он делает политику. И как только он добрался до самых сакральных персонажей, власть разом отобрала у него все активы. На поверхности — в конкретной действительности, как называл ее Маркс, — разгром свободной прессы и независимого телевидения. А если копнуть… — не кошмарь того, у кого ты стырил деньги, это добром не кончается.
Общественный капитал Атлантики постоянно накапливается, растет, а российский топчется на месте, вечно испытывает нехватку денег, да еще и воюет с кем-то постоянно, то и дело переходя из рук в руки… Как и в других странах — и сейчас, и во времена Маркса, — капитал в России во что бы то ни стало стремится к накоплению и ради этого готов пускаться во все тяжкие. Иногда ему это сходит с рук, иногда нет, и вместо капитала накапливаются только несправедливость и конфликты. Вот вам еще одна причина такой огромной разницы в росте ВВП между нашей страной и странами Атлантики.
Что ж получается, в странах Атлантики накопление капитала всегда происходит справедливо? Насчет «всегда» — не знаю, но в масштабах общества это именно так. Главная интрига Das Kapital в том, что Маркс описал вполне справедливое общество. Все товары обмениваются по стоимости, в том числе и товар рабочая сила. В масштабах общества никто никого не надувает: ни промышленники банкиров, ни те и другие — рабочих. Тогда почему, доказывая именно это, Маркс буквально на каждой странице повторяет, что это мерзкая эксплуатация? Несправедливость. Вроде бы сам высмеивает открытые им законы. Странно…
Его товарищам по вере это странным не казалось. Карл Каутский, например, писал: «…Рабочий и капиталист противостоят друг другу как свободные и равные, независимые один от другого лица; как таковые они принадлежат к одному и тому же классу, они — братья… Царство справедливости, свободы, равенства и братства — тысячелетнее царство счастья и мира кажется наступившим вместе с воцарением системы наемного труда. Бедствия порабощения и тирании, эксплуатации и кулачного права остались там, позади. Так возвещают нам ученые защитники интересов капитала»[5]. Ни Маркс, ни «товарищи» с этим категорически не согласны. Раз часть труда рабочего не оплачена, это эксплуатация — и точка.
Может, зря мы начали читать Das Kapital с третьего тома? Может, где-то в самом начале есть подвох и Маркс объяснил, что все открытые им законы построены на скрытом обмане? Винтики, из которых собран двигатель внутреннего сгорания, с самого начала были с дефектом, а мы это пропустили…
Прежде чем рассуждать о винтиках, надо передохнуть. Понять собственную жизнь Маркса. Тогда и с винтиками будет проще разобраться.
Жизнь гедониста-романтика
Маркс был довольно заурядным юристом и блестящим журналистом. Наверное, мог бы стать вполне неординарным юристом — с его-то логическим умом. Но у него было легкое перо, яркий саркастический талант публициста. Он умел хлестко и безжалостно обнажать суть явлений, и это занятие, похоже, нравилось ему больше, чем удел сытого адвоката, набивающего карманы крошками чужого богатства, которыми с ним поделились за выигранные дела.
Жизнь вокруг бурлила и кипела. Он чувствовал, что имеет право на все — интрижки, студенческое распутство, попойки и драки, жизнь взаймы, карты, вечеринки и флирт. Маркс постоянно увлекался женщинами, что совершенно не противоречило его Большой и Единственной Любви.
Еще подростком он полюбил Женни фон Вестфален, которую знал с пеленок, ведь их отцы дружили. В 1835 году Женни и Карл обручились — ей было 21, ему 17. Как водится, наперекор родителям. Богатому семейству баронов фон Вестфален уже тогда было ясно, что Карл — юноша одержимый, не знает меры ни в чем. Женни осталась в Трире, их родном городе, а Карл отправился учиться в Бонн… Оттуда он — после драк и попоек — перевелся в Кельнский университет, потом — в Берлинский и снова в Бонн. Везде было одно и то же — памфлеты в студенческих и местных газетах, гульба и женщины. И любовь к Женни, с которой они переписывались шесть лет. И письма отцу, в которых он только требовал денег. А отцовские ответы рвал. Тот призывал сына хоть как-то соразмерять свои аппетиты со скромными доходами семьи.
Женни и Карл упали друг другу в объятья в Бонне за два года до брака. Согласитесь, в те времена для девушки из хорошей семьи это был поступок! Маркс с браком не торопился, но когда решился, то устроил свадьбу, конечно, на курорте, за ней — свадебное путешествие по Рейну с его дивными замками. Путешествие закончилось только тогда, когда молодожены спустили все, что дали им родители для начала новой жизни. А тут — ребенок, дочка. Ее, конечно, назвали Женни, но молодые мать с отцом не представляли, как обращаться с малышкой, и после того, как чуть ее не уморили, отправили младенца к бабушке, баронессе фон Вестфален.
Зять — это зять, а дочь, тем более внучка — совсем другое дело. Когда баронесса фон Вестфален-старшая сочла нужным напомнить молодым о родительском долге, то в придачу к младенцу отправила безалаберной семейке служанку — Елену Демут, которая прожила в семье Марксов всю жизнь. Вела дом, готовила, растила детей и даже играла с Марксом в шахматы, чтобы семейная рутина не так его тяготила. При этом семья то и дело переезжала — Маркса постоянно высылали за его статьи и научные работы.
В Париже он познакомился с Энгельсом, и они уже не расставались никогда. Их объединяли не только идеи, но и отношение к жизни. Ярко-голубые глаза Энгельса вспыхивали огнем, как только намечалась возможность дебоша, протеста, а еще лучше — сексуального приключения. Он так понимал Маркса! Любовь Карла к Женни, да и прочие его увлечения были, по сути, сентиментальными чувствами немецкого романтика. Впрочем, и сама Женни понимала и принимала именно такого мужа.
Когда Маркса выслали из Парижа, он на какое-то время осел в Брюсселе, куда переехал и Энгельс. Они вместе взялись за работу «Немецкая идеология». Речь в ней шла о том, насколько обветшали все идеи немецких философов, которые писали о чем угодно — и весьма глубоко, особенно Гегель, — но браться за переделку мира не считали нужным. А вот Маркс и Энгельс, в отличие от них тут же примкнули к тайному пропагандистскому обществу Союз коммунистов, организованному немецкими эмигрантами. Составили для него программу — тот самый «Манифест коммунистической партии». Дело было в разгар промышленных революций в Европе, и они вбили себе в голову, что рабочие — которые уже тогда порывались ломать машины, лишавшие их работы, — совсем скоро перейдут к революциям коммунистическим.
Тогда Маркс еще не разобрал по винтикам капитал. «Коммунистический манифест» продиктован задором публициста. Он верил, что все будет именно так, потому что ему и Энгельсу так хотелось.
Годом позже семья переехала в Лондон. Маркс принялся за экономическую теорию… Когда талантливый философ берется за глубокое исследование, им движет не вера, но логика. Маркс честно открывает один за другим законы общества, основанного на капитале.
Пассажи о неизбежности пролетарских революций выглядят в Das Kapital как декларативные вставки: заклинания на тему эксплуатации, стенания о бедствиях рабочих и пауперов — есть у англичан такое словцо для обозначения нищих.
Конечно же, между капиталом и рабочими есть противоречие: у них постоянный конфликт, как делить прибавочную стоимость, созданную трудом рабочего. Но как же Маркс не мог додуматься, что это противоречие вовсе не является неразрешимым? Капиталу всего-то надо делиться — не сажать рабочих на хлеб и воду, а дать им человеческие условия жизни, достаток просто ради того, чтобы они выбросили из головы блажь насчет революций… Этого Маркс увидеть не захотел. А может, тому виной его собственное вечное безденежье? Вот уж кто никогда палец о палец не ударил, чтобы найти свой путь к деньгам.
Несмотря на переезды и нужду, Женни рожала без передышки — каждые полтора года. После двух дочерей наконец-то появился долгожданный сын, которого отец прозвал Фоксик. Одна из дочерей умерла в младенчестве, сын Фоксик — в год, когда мать уже снова была беременна дочерью, Франциской, умершей три года спустя. Почти одновременно с Франциской родился сын и у Елены Демут. Злые языки утверждали, что от Энгельса… Елена Демут вместе с сыном продолжала тем не менее жить в семье Марксов. Несмотря на неугасающую взаимную любовь Женни и Карла, обстановка в их тесной и запущенной квартире на Дин-стрит становилась все более напряженной. «Ты поймешь, насколько все запутано и что я погряз по уши в мелкобуржуазном дерьме», — жаловался Маркс в одном из писем Энгельсу.
Маркс пытался играть на бирже, но неудачно. Прожил наследство отца, а потом и дядюшки. Скрывался от кредиторов, закладывал вещи в ломбарде, порой не мог выйти на улицу — не было пальто. Кроме работы, жены и детей, его не интересовало ничего. Он ненавидел буржуа, но дружил с ушлым фабрикантом Энгельсом и без смущения брал у него деньги — потому что не придавал им значения. Ведь друг просто дает ему возможность работать, не отвлекаясь на бытовую муру!
Маркс сам был соткан из противоречий. Не делал ничего, чтобы разобраться в собственной жизни. Он не приехал ни на похороны отца, ни на похороны матери, но сам был прекрасным отцом. Дети его обожали — хотя бы за то, что он сочинял для них… чýдные сказки. Он мог часами возиться с ними, но заняться их образованием — на это терпения у него уже не хватало. Когда жена заболела оспой, Маркс ухаживал за ней как профессиональная сиделка. Его любовь не угасла оттого, что оспа обезобразила лицо жены. Но он не пошел хоронить Женни, когда она умерла…
Не приспособленный к жизни Маркс умел наслаждаться всеми ее дарами и тут же забывать о них, погружаясь в книги. Прекрасно разбирал ошибки и натяжки своих оппонентов, называя их вульгарными экономистами, а сам зациклился на вере в то, что пролетариат — нищий, как и он сам, — превратится в класс-гегемон.
Ничего не остается, кроме как предположить, что мы упустили тот самый тайный подвох — где-то в начале, в скучных рассуждениях о том, как зерно меняется на сюртуки, Маркс раскрыл секрет, который делает деньги и капитал неправедными. Как-то же он должен был объяснить, откуда берутся «угнетение» и «эксплуатация».
Винтики общества: от абстрактного к конкретному
Общество — не прибор, который можно руками разобрать на детали и пощупать. Его устройство поддается только умозрительному логическому анализу. Но, как ни странно, в самой глубинной основе и общества, и прибора обязательно отыщется противоречие, которое и заставляет все крутиться.
Двигатель внутреннего сгорания — реальный, не образный — основан на конфликте между разогретыми продуктами сгорания и ограниченностью отведенного им пространства. Конфликт разрешается тем, что продукты сгорания толкают вперед поршень. Поршень, толкнувшись куда надо, заставляет открыться клапан. Тот снова впускает в цилиндр горючую смесь, а продукты сгорания опять толкают поршень. Неподвижные колеса приходят в движение. Сила действия всегда находится в противоречии с ею же порожденной силой противодействия.
Конструкторы двигателей могут порвать меня в клочки за это описание, но оно показывает нам то простейшее и общее, что толкает вперед и автомобиль, и самолет, и ракету — горение в ограниченном пространстве.
Простейшее у Маркса — это товар. С одной стороны, товар конкретен — он предметно существует. С другой — абстрактен, потому что не важно, пылесос это или йогурт. Это товар как таковой. Это простейшая абстракция, потому что на еще более мелкие части его уже не разложить.
Зато вся действительность, если ее разложить на простые понятия, оказывается товаром. И земля — товар, и недра, и интеллектуальная собственность, и изобретения. И деньги в банках, равно как и деньги в кармане. Абсолютно все, что можно обменивать, — это товар. Поэтому товар —всеобщая абстракция.
У товара конкретного есть потребительная стоимость — мы знаем, зачем покупаем зонтик или мороженое. У абстрактного главное — стоимость, что у зонтика, что у мороженого. Она равна среднему, то есть общественному труду, который требуется для его производства, плюс молоко и сахар для мороженого или материя и спицы для зонтика. В этом самом месте — абстрактное, конкретное, стоимость и потребительная стоимость… — нормальному человеку становилось скучно. Тем более что в Das Kapital ничего нет про мороженое и зонтики, а все больше про зерно и сюртуки, никакого отношения к нашей жизни не имеющих.
Да забейте вы на сюртуки! Речь о том, что все товары обмениваются как эквиваленты! Можно в столбик пересчитать шиллинги за зерно и сюртуки, чтобы убедиться, что у Маркса все сходится. В жизни кто-то кого-то всегда надувает, один продает свой товар выше стоимости, другой — ниже, но количество надувших и везунчиков всегда уравновешивается количеством лохов и неудачников. Товары всегда обмениваются по их стоимости — сегодня мы говорим «по рынку». В масштабах общества их обмен всегда эквивалентен. Нудновато все это, но иначе с пресловутыми «эксплуатацией» и «угнетением» не разобраться.
Простой пример. Человек потратил на квартиру, скажем, 10 млн рублей. Решил продать — никак. Он твердит: «Кризис на рынке, рубль пляшет, риелторы жулики…» Ему говорят: «Снизь цену до 8 млн». Как так? Он же потеряет деньги, а строил, чтоб заработать. Но, как ни странно, за 8 млн квартира продается влет, невзирая на кризис, на рубль и на жуликов-риелторов. Потому что ее общественная стоимость именно 8 млн! А что собственник потратил на нее 10 млн — это, увы, его личная проблема. С самого начала надо было думать, как ограничить бюджет проекта хотя бы 7,5 млн, чтобы остаться с доходом.
Тут и Маркс не нужен, это все и сами знают, но будто глаза у них пеленой застилает. Потому что денег хочется, деньги нужны позарез, а откуда они берутся — человек вроде и забыл, когда дело до его собственной квартиры дошло.
Деньги тоже товар. Рубли, доллары или золото… Их потребительная стоимость, в отличие от зонтиков, в том, что они — эквивалент всех остальных товаров. На них меряют стоимость товаров (мера стоимости), они обеспечивают обмен товаров (средство обращения), ими платят за товары (средство платежа). Их можно копить, чтобы купить дом или собственное производство (средство накопления). Деньги сводят все товары к единству. Все эти функции денег тоже открыл именно Маркс.
Он рассказал и о том, откуда деньги берутся. Перевернем формулу в «деньги — товар — деньги». С ходу видно: нужно, чтобы на выходе денег стало больше, чем на входе. Нужно купить такой товар, который добавит к стоимости холста главное — труд, ведь готовый сюртук стоит дороже. Производитель получит на выходе новую, дополнительную стоимость. Прибавочную стоимость — называет ее Маркс, это в его учении ключевое понятие.
Но если все товары обмениваются по стоимостям, то и за труд надо заплатить его стоимость, откуда же прибавочная стоимость? Так у одного-единственного товара — у рабочей силы — есть уникальное свойство: он способен производить большую стоимость, чем стоит сам. «Потребление рабочей силы — это сам труд»[6].
Вспомним о переменном капитале: рабочий создал за месяц стоимость в 1800 долларов, а получил только 1000. Это справедливость или эксплуатация? Вопрос выходит из сферы объективных законов в область моральных суждений. У рабочего же нет ни холста, ни швейной машины, чтобы сшить сюртук. Ему нужен капиталист! Только он купит товар, который есть у рабочего, — его рабочую силу. Можно считать рабочего свободным и равноправным, раз ему платят зарплату, равную стоимости его рабочей силы, а можно называть угнетенным — 800-то долларов прикарманили.
Кто лучше живет в современной России, получает за свой труд больше денег и чувствует себя более преуспевающим? Собственник участка земли, где он и его семья растят морковь для продажи на рынке? Или банкир, который не имеет ни земли, ни трактора, не растит морковь, но ходит на работу в белой рубашке и получает в десять раз больше?
Банкир продает только то, что у него есть. И это не морковь, а его рабочая сила. Он тоже трудится только часть дня на себя, а часть — на собственников банка, создавая для них капитал. Никто же не считает это угнетением. Банкир — свободный человек. Может растить и продавать морковь, если хочет. Другой вопрос — могут ли производители моркови сами стать капиталистами (земля-то у них есть) и нанимать рабочую силу, чтобы выращивать больше моркови и делать деньги?
Для этого им нужны дороги, чтобы попасть на рынки, нужны холодильники, склады — короче, инфраструктура. Нужна возможность переехать в другую местность, если в твоей местности морковь растет кривенькая. То есть производителям моркови нужен рынок товаров и рынок жилья. Все снова сводится к «четырем свободам». К мобильности факторов производства, которая в развитых странах высока, а у нас так низка, что требуются нечеловеческие усилия даже для того, чтобы растить морковь, зарабатывая на этом деньги.
Наследство и сегодня не понятое до конца
Когда люди узнали от Маркса, «как все это устроено», им открылись причины и следствия любого решения. Общество перестало казаться им непознаваемым и хаотичным. Поэтому и стоит подружиться с Марксом. Чтобы не было иллюзий…
Можно взять такую прозаическую науку, как бухгалтерский учет. Бухгалтерские книги существовали и до Маркса, но современный бухучет стал столь сложной и специальной дисциплиной, потому что вобрал в себя все законы, которые открыл Маркс. Амортизация — это та часть основного капитала (то есть зданий, станков), которая изнашивается, перетекая мелкими порциями в стоимость товара. Основной капитал — или основные средства — служит долгие годы и оценивается поэтому один раз в год. Оборотный капитал расходуется в течение одного цикла производства и пересчитывается каждый квартал.
Маркс показал: чтобы производство развивалось, в него надо вкладывать не меньше половины прибыли и только остаток можно потратить на потребление как дивиденды. Так работает закон накопления капитала. Именно таким образом и поступает сегодня большинство акционерных обществ. Маркс заложил основы здорового финансового менеджмента, которые впоследствии превратились в отдельную дисциплину.
Мы искали у Маркса подвох. И что же? Его нет. Мы только обнаружили, что не существует и не может быть единой для всех стран и времен стоимости самого уникального товара — рабочей силы. Ну так ничто не остается неизменным.
Маркс прав: капиталисту нужно, чтобы рабочая сила всегда воспроизводила себя. Но сколько для этого нужно еды, одежды, удобств в доме? Каков должен быть размер жилья — конура, комната, квартира, дом? Короче, сколько денег надо платить рабочему, чтобы он жил и работал, чтобы у него рождались и не умирали дети, как у самого Маркса? На этот вопрос Маркс не ответил.
В его времена капиталисты действительно определяли стоимость рабочей силы по минимуму. Условия жизни английских рабочих Маркс расписал в красках: рабочий день по 14 часов, детский труд, кошмарное жилье… Но разве Маркс не мог предвидеть, что такое положение когда-то изменится? Наверное, мог. Но он верил, что гораздо раньше пролетариат взбунтуется и установит свою диктатуру. За это его часто называют демоном отрицания, который только разрушал. Это не так. Маркс буквально ткнул общество носом в главное его противоречие — между общественным характером труда и частнокапиталистической формой его присвоения. У капиталистов открылись глаза: чтобы и дальше присваивать часть стоимости, созданной рабочими, одной только частной собственности на капитал недостаточно. Тем более что тут же случилась Парижская коммуна в 1871 году, и казалось, что это лишь первый звоночек. Капиталисты принялись увеличивать общественную стоимость рабочей силы: ввели ограничения рабочего дня, стали регулировать условия труда и повышать минимальную зарплату, запретили детский труд, открыли бесплатные школы.
Открытое Марксом главное противоречие капитализма никуда не делось. Капиталисты и рабочие — постоянно в борьбе. Но при Марксе рабочие боролись за выживание, а сегодня в передовых странах Атлантики они живут в собственных домах с парой машин и борются за представительство в парламентах.
Маркс умер в 1883 году, пережив любимую Женни фон Вестфален на два года. Он ушел из жизни неслышно, в одиночестве, просто тихо заснув в кресле. На кладбище Хайгейт в Лондоне он лежит рядом с Женни и Еленой Демут…
«Его дочь Элеонора покончила с собой в 1898 году, дочь Лаура и зять Поль Лафарг — в 1911-м. Почему? Мертвые дети в сигарном дыму, изъеденное оспой лицо Женни. За ними куда менее реальный класс-гегемон — пролетариат. И вполне реальная буржуазия, не собирающаяся погибать. Такая судьба»[7].
А его наследие все продолжали эксплуатировать романтики революции. Им законы не так интересны, как вера. И сегодня в самой «капиталистической» стране, в Америке, студенты колледжей и университетов изучают Маркса, он самый востребованный автор в библиотеках. Думаете, они читают Das Kapital? Как бы не так! Дело ограничивается коммунистическим манифестом.
Одним нравится его бунтарская романтика, другие считают, что насчет диктатуры Маркс погорячился, но в обществе много несправедливости «вообще», и они объявляют себя социалистами. Думаете, только молодежи России не хватает социальных лифтов? С ними и в Америке дефицит.
Только в отличие от наших молодых ребят американские за полтора века на практике отлично усвоили открытые Марксом законы, даже если они и не знают их автора. Американские ребята тоже временами впадают в апатию и аполитичность, но быстро берутся за ум: путь к деньгам для них никто не проложит, кроме них самих. Им и в голову не придет разрушать капитал. Ведь налоги, которые он платит, всегда в разы превышают их собственные, и работу они получают из его рук.
Ужаснувшись тому, сколь заразительна для неимущих Марксова вера, страны Атлантики сделали все, чтобы пролетариату было что терять, «кроме своих цепей». Чем хвататься за дрын, пусть лучше соображает, как своим трудом зарабатывать деньги. И только в России дедушке Ленину — ну, это если ребенок спросит — удалось устроить общество, в котором не стало богатых, и убедить неимущих, что скоро не станет и бедных. А потом пяти поколениям компостировали мозги, перевирая наследие Маркса и запугивая «западными ценностями».
Идеи Маркса свели к догмам. Не думать, не объяснять, а твердить на разные лады, что его учение «всесильно, потому что оно верно», и тем самым отвращать людей и от познания открытых им законов, и от самостоятельного мышления как такового. Не только Ленин был мастак по этой части, были пророки и попроще. Флер их «романтически-бунтарских» догм смущает сознание людей и сегодня. Отсюда и постправда о Сталине, который якобы сделал нашу страну великой, и майки с портретами Гевары и Мао Цзэдуна, и страшилки насчет «западных ценностей». А какие такие собственные ценности эти толкователи Маркса сумели предложить своим народам взамен? С этим вопросом стоит разобраться более детально.
Жаль, что Че Гевару не пристрелили раньше. Очерк о неразборчивых марксистах
Заря капитализма, которую анализировал Маркс, была и впрямь жестоким, кровавым временем. Еще не сложилось понимание, что рабочие — это часть нации, такие же равноправные граждане, как и капиталисты, и торговцы, и аристократы. Поглядев на эту зарю, Маркс и заявил, что у рабочих нет иного выхода, кроме революции.
Погодите! С начала XX века капитал доказал, что, хотя законы Маркса верны и в основе развития капитала действительно лежит противоречие между трудом и капиталом, который часть труда присваивает без оплаты, он — капитал — уже вполне научился разрешать это противоречие. Ясно, что не окончательно — никакие противоречия до конца не разрешаются. Но к ним всегда есть ключи.
Маркс что, не видел ключей? Да нет, он просто был человеком со своими слабостями, страстями и обостренным чувством справедливости как отягчающим фактором. Справедливость — это же такое обширное понятие! В нем и разоблачение лжи, и помощь обездоленным, и другие высокие идеалы. В этом романтика революций. Неплохо бы вспомнить, кстати, что романтические надежды привели к власти и фашизм…
Романтика Марксова пророчества насчет непременного краха капитала воспламеняла сердца куда сильнее, чем его экономические законы. До сих пор самым легендарным из его последователей считается команданте Че Гевара. Думаю, Маркс от этого в гробу переворачивается.
Впрочем, все остальные его последователи один другого стоят. Компания как на подбор: Ленин, Сталин, Мао Цзэдун… На Кубе — братья Кастро, во Вьетнаме — Хо Ши Мин, в Северной Корее — Ким Ир Сен, в Камбодже — Пол Пот… Все они взяли у Маркса всего одну, прямо скажем, убогую мысль: с кончиной капитала придет царство гармонии и равенства. Ради этой химеры они приносили в жертву миллионы. Человек из высшей ценности превратился в строительный материал для их чудовищных социальных экспериментов.
«Кто такой дедушка Ленин?»
Ленин, пожалуй, самый разборчивый из марксистов, энергичный, страстный и одновременно расчетливый прагматик. Он видел отсталость России, прекрасно понимал, насколько его страна отличается от Англии. Венгерский философ-марксист Дьердь Лукач, рассматривая «гениальный и величайший переворот», совершенный Лениным, отмечал, что, в отличие от Европы, капитал в России не вырос органически, а насаждался реформами сверху[8].
Собственно, в России ничего и никогда ниоткуда не росло, а всегда только насаждалось. Ленин насадил пролетарское равенство, а через 70 лет после этого Ельцин заново насадил капитализм.
Во времена Ленина капитал охватывал в России гораздо более ограниченное экономическое пространство, чем в странах Атлантики. Реформы начались только в конце XIX века. Накопление капитала шло, но медленно, капиталу не хватало той самой мобильности факторов производства, о которой писал Маркс.
Главное препятствие — привязка крестьянина к земле до 1861 года крепостным правом, а после его отмены — общиной. Капиталу было сложно дотянуться до рабочей силы, копившейся в деревне.
Нищета миллионов крестьян, запертых в деревне, казалась российским «мыслящим и образованным» меньшим злом, чем капитализм, который в красках описал Маркс. Заперты — так это и неплохо, иначе шатались бы бродягами по дорогам, тыча в глаза «мыслящим» свой пауперизм и вынуждая их что-то с этим делать. А в общине жизнь крестьян организована. Растят зерно и скот, гарантированно платят подати, ведь в общине круговая порука. Община сама платит подати за своих членов, а уж как там внутри крестьяне разбираются, кому сколько платить — дело десятое.
Капитал в России стал развиваться фантастическими темпами, когда усилиями реформаторов — Витте, а за ним Столыпина — он получил для этого хоть какой-то простор. Это и пугало «мыслящих». А Ленин спекулировал на этом страхе.
В отсталой России, доказывал он, революция еще более актуальная затея, чем в передовой Англии. На самом деле в то время в России капитал просто еще не набрал мощи, чтобы самостоятельно разрешать свои противоречия. Но Ленин в эту сторону и не глядел, такой путь ему совершенно не нравился. Ему нравилась революция. Он вербовал сторонников, убеждая их, что революция поднимет страну в разряд передовых. «Дело буржуазии, — писал Ленин, — развивать тресты, загонять детей и женщин на фабрики, мучить их там, развращать, осуждать на крайнюю нужду. Мы не "требуем" такого развития, не "поддерживаем" его, мы боремся против него. Но как боремся? Мы знаем, что тресты и фабричная работа женщин прогрессивны. Мы не хотим идти назад, к ремеслу, к домонополистическому капитализму… Вперед через тресты и пр. и дальше них к социализму !»[9]
Видя, насколько ужасна жизнь основной массы народа — крестьянства, Ленин вполне цинично рассчитал, что революционность «низов» — пусть не пролетариата — существенно выше, чем в передовых странах.
А тут еще и война… О соблазне простого ленинского решения всех проблем чохом хорошо написал российский публицист Л. М. Млечин: «Осенью 1917 года он [Ленин] обещал России именно то, о чем мечтало большинство населения. Одним мир — немедленно. Другим землю — бесплатно. Третьим — порядок и твердую власть вместо хаоса и разрухи, наступивших после Февральской революции. И всем вместе — устройство жизни на началах равенства и справедливости. Сопротивляться притягательной силе этих лозунгов было немыслимо»[10].
Верил ли Ленин, что, отобрав фабрики, деньги и землю у промышленников, банкиров и помещиков, можно всех немедленно осчастливить? Думаю, на «осчастливить» ему вообще было плевать. Ему нужно было поставить народ под свои знамена, раздавая заведомо невыполнимые обещания.
Что было дальше — известно. Ленин за ценой не стоял. Всего одна его телеграмма — в Саратов: «…Советую назначать своих начальников и расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты. 10 сентября 1918 г.»[11]. Такого рода телеграммы летали сотнями.
Может, это было временной необходимостью военного времени? Маркс же не отрицал, что диктатуре пролетариата капиталисты будут сопротивляться. Это навряд ли: гибкий и циничный вождь ковал официальную доктрину страны: «…Суд должен не устранить террор… а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас»[12]. И это уже после войны, в 1922 году.
Мало кто умел так ловить настроение масс и так безбоязненно и беспринципно, по обстоятельствам, менять свою политику — иногда на прямо противоположную. Как выразился тот же венгерский философ Лукач: «Ленинизм — это приспособление марксизма к решениям очередного пленума ЦК»[13].
В 1921 году Ленин писал: «…Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. "Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать" — так рассуждает крестьянин, по привычке… А мы говорим, что это государственное преступление»[14].
А вот это уже бесстыдство. Запрещать мелкому производителю считать своим товар, который он произвел своими руками, равно как и деньги, которые он за него получил? Ленину, называвшему себя марксистом, начхать на все законы Маркса об обмене эквивалентов.
Но уже через год он заговорил по-другому. Голод, в который погружалась страна, вынудила его ввести НЭП — новую экономическую политику, по сути снова ввести рынок. Ленин разрешил частное предпринимательство, которое еще годом раньше каралось расстрелом. Обосновал необходимость привлечения иностранного капитала в форме концессий, которые заработали уже после его смерти. Торговцы, ремесленники, предприниматели, почувствовав, что снова приоткрыт путь к деньгам, бросились производить и продавать. Рубль стал конвертируемой валютой.
Пошло восстановление экономики. Это же благо, разве нет? Но вот тут как раз и уместно подчеркнуть, насколько верны естественные законы, открытые Марксом: они приходят в действие, лишь только людям разрешают вспомнить, откуда берутся деньги. Любая степень свободы предпринимателя, любая лазейка для накопления денег ведут к возрождению капитала. Потому что это самая естественная форма материализации человеческого труда.
Капитал? Тот, который революция должна была уничтожить? Опять капитал? Он множил на ноль всю идею диктатуры пролетариата — государства, в котором люди работают не ради денег и достатка, а ради мифического «общего блага». Подхарчившись на усилиях предпринимателей, которые поверили, что им позволят поднять страну из руин, большевики решили, что раз голод отступил, то и хватит вольницы. И задраили все люки и лазейки.
Сталин шел твердым ленинским курсом, не надо ля-ля, что они с Лениным чем-то отличались друг от друга. Он рубил под корень любые признаки возрождения богатства. Расстреливал нэпманов, отбирая в казну их накопления. Раскулачивал в деревне сначала кулаков, которые использовали наемный труд, потом принялся и за середняков — просто зажиточных крестьян, которые, вполне по Марксу, тихо-мирно меняли зерно и молоко на городской ситчик и ботинки. Потому что такие занятия превратят кого-то из середняков снова в капиталистов, а остальных снова в батраков, пролетариев. Все снова пойдет тем же путем, как у всех! Вот уж дудки! За что боролись?! Сталин жаждал превратить страну в передовую, но только снова собственным, снова «особым» путем, утерев нос всем другим передовым.
Тридцатые годы, полным ходом идет индустриализация. Откуда берется сила движения вперед, когда уничтожен естественный двигатель внутреннего сгорания — капитал, который вынужден двигать технический прогресс вперед и одновременно не забывать о рабочих и их месте под солнцем?
Вместо этого двигателя — грабеж народа и использование принудительного труда. Кто-то скажет: «Ну вот, сейчас нам опять будут рассказывать о репрессиях и ГУЛАГе…» Да, будут! Гибель в лагерях около 20 млн человек нельзя забыть. И нельзя смириться с тем, что, оправдывая сталинизм, коверкают историческую память россиян и отравляют мозг молодых, которые судят о прошлом понаслышке.
Сталинский «марксизм» полностью не оценить, если не вспомнить, что, кроме ГУЛАГа, были еще 32 млн принудительных переселенцев. Что в деревнях все сгребалось в колхозы, а оттуда зерно вывозилось за границу для закупки станков. Что десятилетиями в деревнях люди работали не за деньги, а за «галочки трудодней», то есть за обещания подкинуть керосина, дров, соломы за каждый отработанный на колхоз день. Если у колхоза найдется, что подкинуть.
Жуткая ирония в том, что даже успехи индустриализации объяснимы при помощи законов, открытых Марксом. На них основано развитие экономики вообще, не только развитие капитала. Даже в большевистском тоталитарном обществе, где капитал был искоренен, его законы просачивались всюду, как струйки воды между камнями в горах. Дайте камню упасть вниз, и он полетит с ускорением «джи»…
Вспомните: Маркс разделил капитал на постоянный и переменный. Показал, что переменный капитал создает стоимость и прибавочную стоимость, а постоянный обеспечивает технический прогресс, одновременно «удорожая» производство и снижая норму прибыли. Если бы это было возможно без проигрыша в конкуренции, капиталист с радостью заменил бы пятьсот рабочих на тысячу вместо того, чтобы покупать новые станки и совершенствовать технологию.
Конкуренцию ликвидировали мгновенно и стали применять как можно больше переменного капитала, то есть живой рабочей силы, чтобы накопление — уже государственное — шло быстрее. Плевать, что закрепляется низкая производительность, плевать, что людям платят символически и лишают их мотивов к труду. Важно выкачивать и выкачивать их труд. Если у Маркса так и непонятно, откуда берется эксплуатация, то тут-то она как на ладони. И на это плевать. Главное — что деньги, вырученные за прибавочный продукт, созданный трудом, идут в казну. На них государство превратит страну в великую державу — во благо народа.
С переменным капиталом ну просто раздолье! Подневольный труд обеспечивал строительство дорог, прокладку рельсов и рытье каналов в гигантском концерне под названием ГУЛАГ. Уж в этом заведении постоянный капитал — всего лишь затраты на бараки, на часовых на вышках, на тюремные матрацы и баланду! Практически неограниченное количество бесплатной рабочей силы, в итоге — фантастическая норма прибыли. Вот вам и формула сталинской индустриализации.
Колонизация внутренняя и внешняя
Это не об имперской политике России. Это о том, что в России последние 200 лет шла внутренняя колонизация. Столицы Российской империи выкачивали ресурсы с окраин. После революции требовалось создать витрины ее победы. Москва, Ленинград и еще с полдюжины городов демонстрировали, что «жить стало лучше, жить стало веселей» за счет большевистского грабежа остальной страны.
Превращение аграрной России в ведущую индустриальную державу 1930-х годов обеспечивалось выкачиванием ресурсов из деревни. Всего несколько городов и прослойка номенклатуры — так стали называть чиновников высокого ранга, чтобы избежать неприлично буржуазного слова «элита», — это и была витрина, метрополия. Вся остальная страна — колония, которая обеспечивала ее благоденствие. Между ними — практически ничего общего, в единую страну их объединяли только всеобщая грамотность — бесспорное достижение Совдепии — и государственно-партийная идеология. Если из метрополии что и перетекало в колонию, то, пожалуй, лишь бесплатная рабочая сила. Люди проводили вечера в театрах или ресторанах, пользовались благами витринного благосостояния, жили в высотках или домах на набережной, но в любой момент каждый мог быть превращен в колониального раба в лагерном бараке. Даже не ради увеличения дармового переменного капитала — номенклатура тут погоды не делала. Просто ее надо было постоянно держать на крючке, а то вдруг она начнет думать и смущать народ.
Откуда брались деньги, если все работали из страха, а не ради выгоды? Так у населения их и не было, только у государства, сбывавшего произведенные в колонии товары за границу, чтобы завезти оборудование, необходимое для индустриализации.
Колонизация, в отличие от капиталистического обмена эквивалентов, — это всегда грабеж. Колониям никаких эквивалентов не положено. Развитие России — история постоянной внутренней колонизации. Жизнь одних за счет других объясняет, почему «марксистские» революции, вообще никакого отношения к «пролетарским» не имевшие, происходили именно в отсталых странах, где и пролетариата-то не было, зато была зависимость от метрополии. От внешней — в Камбодже и Вьетнаме — или от внутренней, то есть от диктаторской власти, — в Китае, на Кубе и в России. Разница лишь в том, что при внешней грабят колонии, а при внутренней — собственный народ.
Для неразборчивых марксистов хороши любые аргументы и подтасовки, любые обрывки лозунгов Маркса, чтобы замутить революцию. Ведь они должны как-то объяснить — причем не только своему народу, но и самим себе, — почему страна у них такая отсталая. Почему в экономике нет внутреннего движка развития, которым может быть только капитал. Преодоление отсталости на капиталистических рельсах — путь сложный, но осуществимый во вполне обозримый период времени. К тому же другого пути никто не придумал.
Из отсталой в высокоразвитую страну Россия превратилась в последние два десятилетия перед Первой мировой. Германия после Второй мировой всего за 12 лет превратилась из страны, лежащей в руинах, в лидера европейского рынка. Но вожди революций — романтики и диктаторы, они не умеют ни созидать, ни ждать. К сожалению, они не умеют и работать. Зато умеют внушить людям, что и тем ждать нельзя, а уж с эксплуатацией мириться тем более. Немедленно на баррикады! «Хотим справедливости и не хотим быть зависимыми ни от кого».
В Китае, на Кубе, в Камбодже, в странах Латинской Америки и Черной Африки то и дело появлялись романтики, которым жгла сердце несправедливость. Во всех отсталых странах романтика обещаний справедливости оборачивалась диктатурой. Всегда под флагом марксизма. Никто из тех, кто пошел за вождями-марксистами, никогда не задумывался: а осуществимо ли обещанное? Откуда возьмется развитие человека и общества, если в стране не только нет денег, но даже и не ставится вопрос о том, каким образом их собираются производить?
Ничего из того, что пообещал русскому народу Ленин, не сбылось. Точно так же ничего не сбылось из того, что обещали неразборчивые марксисты в других странах. Сбылось совершенно иное… Причем в самых непохожих на Россию странах под кальку повторялась именно ее трагедия.
«Облагодетельствовавший Восток»
Таков буквальный перевод имени Мао Цзэдун. Учился он несистемно, но читал запоем. Любил классическую литературу, еще больше — исторические труды, а философия вызывала у него отвращение. Примечательная мелкая деталь: Мао посещал буддийский храм, совершенно не вникая в суть этой веры, а просто потому, что буддисткой была его мама. В храме ему нравились благовония и… еще там сжигали деньги. Это завораживало. Мао видел в этом уничтожение символа всеобщего зла.
Чуть позже, уже осмыслив достижения СССР, который за считаные годы стал самой образованной страной и промышленно развитой державой, Цзэдун принимается за чтение Маркса, Ленина и — волей-неволей — западных философов, все больше убеждаясь, что только революция российского образца сможет преобразовать его страну. Все тот же поиск преодоления отсталости особым путем — прыжком через пропасть в царство процветания.
И вот организация бунтов, партизанщина, подпольная á la советская республика в провинции Цзянси. Первым делом конфискуется и перераспределяется земля. Ни о какой диктатуре пролетариата речь не шла: не было пролетариата. Расчет Мао был на крестьян, на самую массовую, невежественную и бесправную часть населения Китая. Со своими противниками в Цзянси Мао боролся с помощью репрессий — значение террора он прекрасно усвоил с помощью Ленина. Усиление компартии Китая, создание Красной армии, личная борьба Мао за власть привели к созданию в 1931 году Китайской Советской Республики. По сути, страна оказывается втянутой в такую же гражданскую войну, как и в России, только в Китае она длится не три года, а 16 лет. К 1947 году образована КНР со столицей в Пекине.
В социалистическом Китае все происходило под копирку Совдепии. Те же чистки в партии — кампании по «самокритике», такое же подавление свободомыслия. Индоктринация партийной идеологией всех примкнувших к компартии. Создание нового направления марксизма — «маоизма», особой, дескать, интерпретации Маркса в Китае, где нет пролетариата, а потому главное — прагматичная ориентация на крестьянство. Ну и «особый китайский путь», как без него! Деградация сельского хозяйства при постоянном переделе земли — калька с советской колхозной действительности. И точно такая же калька с реалий, созданных Сталиным, — культ самого Мао.
Курс «Большого скачка» во всех областях экономики, чтобы уже через 15 лет, к началу 1970-х, догнать ни много ни мало Великобританию, — процесс, аналогичный советской «ревущей индустриализации». Для этого вместо ГУЛАГа существовали коммуны, куда сгоняли все сельское и частично городское население страны. Коллективизация в коммунах перещеголяла даже советскую деревню: личная собственность запрещена, организовано коллективное питание в столовых. В коммунах стали производить не только сельскохозяйственную, но и промышленную продукцию. Создание сильной металлургии на задворках огородов — это вообще как? До такого маразма мог додуматься только человек, в чьем имени заложено, что он пришел в мир, чтобы «облагодетельствовать Восток».
Расчет был один — чтобы трудились на совесть. Расчет странный, потому что человек — животное ленивое, но рациональное и трудится либо ради денег, либо от страха. Мао, видимо, и сам не очень верил, что можно построить светлое будущее на одной лишь совести. Массовый энтузиазм и восторг по поводу жизни в коммунах — сомнительный двигатель внутреннего сгорания. Он даже отчасти не в силах компенсировать неумение крестьян выплавлять сталь. А их заставляли делать именно это.
Энтузиазм пришпоривался знаменитой «Красной книжечкой» — цитатником Мао. Но когда «Большой скачок» тем не менее закончился катастрофическим провалом, крестьяне, лишенные экономических мотивов работать, не то что сталь прекратили плавить, но и поля перестали обрабатывать. В стране кончились продукты, и в 1959-1960-х годах пришел настоящий голод, который унес жизни от 16 до 40 млн человек (по разным оценкам). Тогда в ход пошла другая калька.
ГУЛАГов как таковых в Китае не было, но началась «культурная революция» и появились хунвейбины — отряды особого назначения. Проводятся массовые судилища партработников, интеллигенции, террор захватывает все области жизни, классы и регионы. Калька перещеголяла даже оригинал: террор осуществляет не государство, он становится массовым движением добровольцев. Любой гражданин в любой момент мог быть избит, подвергнут пыткам и уничтожен. Сжигались миллионы книг, разрушались тысячи храмов и библиотек. В пику хунвейбинам формируются враждебные им группировки защитников режима, между ними идет резня, жизнь в городах замирает, Китай в прямом и переносном смысле лежит в руинах.
О личной жизни Мао, о его богатстве, о сменах пассий и жен, об изменах и совокуплениях по принуждению, о любви к роскоши — при нелюбви к деньгам — обо всем этом писать неохота, уж больно клишировано. Тиран Мао в своей стране сделал все, чтобы убить любые ростки капитала, искоренить деньги, накопление, остановить развитие в принципе, — при этом он утверждал, что эти преступления и есть марксизм. «Цитатник» содержит тысячи его высказываний на эту тему, которые каждый китаец был обязан зазубрить, повторять на встречах и даже в автобусах.
Вот только одно из них:
«Коммунизм есть цельная идеология пролетариата и вместе с тем новый общественный строй. Эта идеология и этот общественный строй отличны от всякой другой идеологии и всякого другого общественного строя и являются наиболее совершенными, наиболее прогрессивными, наиболее революционными, наиболее разумными во всей истории человечества. Феодальная идеология и общественный строй уже сданы в музей истории. Идеология и общественный строй капитализма в одной части мира (в СССР) уже тоже сданы в музей, а в остальных странах еле дышат, доживают последние дни и скоро попадут в музей. И только идеология и общественный строй коммунизма, не зная преград, с неодолимой силой распространяются по всему миру, переживая свою прекрасную весну»[15].
За прекрасную весну китайцы заплатили миллионами жизней, голодом, пытками и нищетой. «Облагодетельствовавший Восток» переплюнул даже Сталина…
Два брата и их двуликий команданте
Кубинский лидер Фидель Кастро правил Кубой более полувека. О его деятельности и жизни ходит множество противоречивых легенд. Одни считают его народным правителем, а другие — самым жестоким диктатором человечества. Он пережил более 600 покушений на свою жизнь, стал лидером революции, превратился из союзника США в самого страшного его врага и вступил в ядерный и экономический союз с СССР. Лихо, ничего не скажешь!
Интересно, что он особо никогда и не причислял себя к марксистам. В отличие от Мао, например. Фидель просто был весьма незауряден и хваток, умел заразить людей романтикой революции, а главное — он был безмерно амбициозен. Коммунистическая идеология, в общем-то, оставляла его равнодушным, но он любил повторять, что стал бы коммунистом, если бы его «сделали Сталиным».
Есть разные мнения насчет того, была ли Куба до революции действительно отсталой страной. Скорее — среднеразвитой. В ней был мощный рабочий класс, чьи заработки были сопоставимы с заработками европейских рабочих. Правда, в то время Европа еще не оправилась от Второй мировой войны и заработки там были скромными. На Кубе были и профсоюзы, и трудовое законодательство, и социальная защита. Если Фидель и называл себя марксистом, то прежде всего для того, чтобы попасть в унисон с идеологией той страны, которая взяла на содержание его режим и кормила его больше 20 лет. Непонятно, были ли у Кастро какие-либо подлинные убеждения, кроме одного: «содержант» видел себя вождем.
Трудно где-то найти больше вранья и взаимоисключающих «фактов» и «свидетельств», чем в описаниях кубинской революции. Ясно одно — она не была ни революцией «обнищавшего» рабочего класса, которой грезил Маркс, ни даже бунтом крестьян, доведенных до ручки нищетой и войной, как это было в России. Это был обычный путч. Переворот, организованный рвущейся к власти интеллигенцией, которая состояла, как это обычно и бывает, из романтиков, готовых и даже жаждущих переродиться в диктаторов.
В январе 1959 года отряд Фиделя триумфально вступил в Гавану после партизанской войны. А войны-то на самом деле не было! Так, ленивая перестрелка: за два года партизанских действий отрядов Фиделя против режима Батисты с обеих сторон погибло около 200 человек.
Оказавшись у власти, кастровцы, не теряя времени, взялись за дело. По «острову свободы» покатилась волна жесточайших репрессий — сажали, пытали в застенках и казнили политических противников. Вождь кубинской «революции» отличался абсолютной беспощадностью, но, как свидетельствует его бывший соратник Роберто Мартин-Перес, просидевший в кастровских застенках около 30 лет, жестокость Фиделя носила чисто утилитарный характер: он убивал без зазрения совести исключительно ради упрочения своей власти.
Тем не менее и по сей день его образ окутан флером романтики. Удивительно, но к этому образу самым прямым образом приложили руку Штаты. Именно их либералы создали легенду о «леволиберальном реформаторе» и борце с мафией!
Легенда о либерале Кастро возникла из-за того, что Штатам страшно не нравился его предшественник — Батиста. С латифундистами режима Батисты была тесно связана горстка американских гигантов агробизнеса, и они стояли намертво, не пуская в страну американских производителей попроще. Батиста был действительно окружен мафиозной кликой, установил режим с нулевой демократией. Ну как Штатам это может понравиться?! Особенно левым американским либералам, а это в Америке мощнейшая сила.
Штаты вбили себе в голову, что Фидель и Рауль Кастро борются именно за демократию. Они возрадовались, когда фиделевский путч смел Батисту. Но, как рано или поздно выясняется практически всегда, враг твоего врага — совершенно не обязательно твой друг. Этого Штаты не учли. Путь на Кубу оказался заказан не только рядовым американским агропроизводителям — первыми из страны Фидель выкинул те несколько крупнейших групп, которые прикармливали Батисту. А уж по уровню несвобод, грабежа и насилия в отношении собственного народа свергнувшие Батисту деятели трижды его переплюнули.
Вот как нормальному человеку разобраться, что такое марксизм? Ведь в самых разных странах самые разные течения, слои с самыми разными убеждениями считают своим долгом непременно взять что-то из марксизма, но тут же что-то поправить, а остальное дополнить и улучшить. И все это с потрясающей неразборчивостью, точнее, с абсолютной всеядностью по части аргументов и потрясающим цинизмом.
Короче, на Кубе вначале все было даже очень симпатично. Латифундии национализированы, казино, которые конкурировали с Лас-Вегасом, закрыты. Ликвидирована проституция — вообще-то естественное явление для относительно бедной туристической страны, особенно с такой карибской атмосферой. И та-а-кими женщинами!.. Надо признать, что почти мгновенно в стране была создана система бесплатного образования и медицины. Симпатично, одним словом.
Первыми отрезвели американские либералы, узрев, что на революционной Кубе никакой демократией не пахнет, а все громче звучит антиимпериалистическая риторика и все отчетливее проглядывают контуры социализма советского тоталитарного образца. А Фидель и не собирался их уверять в обратном. Дружба со Штатами не сулила ему никакой личной диктатуры. И он с легкостью переметнулся в прямо противоположную сторону. Горячо полюбил Советский Союз! Ясно же, что уж там-то за ценой не постоят, хотя бы в пику Америке. Несложный расчет! Получить прокоммунистического сателлита у самых границ Штатов — такой возможности СССР упустить не мог. На Кубу тут же рекой полились деньги. Чувствуете? Снова деньги из воздуха! Ничто так не калечит экономику, не развращает политиков и не отравляет мозги людей, как дармовые деньги.
Уже за первые 10-12 лет весь эффект революционных достижений испарился. Исчезла экономическая основа развития — капитал. Национализированные предприятия работали все хуже. Экономика Кубы держалась прежде всего на помощи СССР. «Остров зари багровой» обходился советскому народу — да, именно ему, ведь только он производил эти деньги — по миллиону долларов в сутки (!). Но Куба все равно скатилась в разряд беднейших стран мира. Как и в любом обществе, где нет капитала, производительность труда тяготеет к нулю. В середине 1970-х журнал The Economist писал: «Главный провал экономики — в патерналистском государстве Фиделя, которое покончило со всеми стимулами к труду и даже платит за безделье. Кубинцы не перетруждаются на своих рабочих местах, проводя рабочее время в беседах и бесконечных телефонных разговорах»[16].
Существует лишь одно средство против упадка экономики в режимах, где нет денег, а значит, и мотивов к труду, — насилие. Деньги как награда за труд на Кубе никакой роли играть не могли, на них нечего было купить. Оставалось одно — трудовые лагеря и казни. Режим в стране становился все более сатанинским.
Принудительный труд не создает денег и богатств. Нигде и никогда. Пирамиды Хеопса, построенные ценой жизней сотен тысяч рабов с тачками и веревками, — это одно, а богатство общества, самой нации, ее людей — совсем другое. Если в обществе деньги не играют никакой роли именно потому, что на них, как было на Кубе и в Советском Союзе, нечего купить, то человек перестает создавать богатство. Его можно заставить трудиться только под страхом смерти. Но принудительный труд не обеспечивает прогресса, он способен лишь поддерживать режим. А режим не в силах открыть ни один из клапанов органичного развития, дать человеку хоть какой-то простор для личной предприимчивости, потому что тогда он начнет зарабатывать деньги, а деньги развалят любую диктатуру.
Когда в середине 1980-х в России уже были пустые прилавки и началась перестройка, ее помощь Кубе прекратилась. И тут же на Кубе произошла экономическая катастрофа. Она превратилась в беднейшую страну мира. Это мало смущало Фиделя. К началу XXI века он подошел с личным состоянием в 900 млн долларов, войдя в списки богатейших людей Forbs[17].
Тут самое время вспомнить о Че — легендарном борце против любой лжи и несправедливости. Гевара стал кумиром миллионов во всем мире, ведь он положил жизнь, помогая обездоленным и бесправным. В значительной мере именно его участие в кубинской «революции» так воодушевляло нью-йоркских левых либералов марксистского толка.
Че вызывал у них особую симпатию еще и потому, что был, можно сказать, мальчиком «из хорошей семьи». Отец его увлекался революционной романтикой, был поклонником Хемингуэя, ненавидел фашизм, дружил с испанскими иммигрантами, бежавшими от режима Франко. Гевара получил весьма недурное образование, зачитывался классикой мировой литературы, трудами философов и политиков, включая Маркса, Энгельса, Ленина, Кропоткина, Бакунина. Он постоянно путешествовал, его влекла романтика, ему претили военные проамериканские режимы латиноамериканских стран.
В молодости он совершил поездку на мотоцикле по всей Латинской Америке — так романтично! Эта поездка даже стала основой одной из голливудских художественных кинолент о том, как Гевара, насмотревшись на народные страдания, ужаснулся и возжаждал освободить всех угнетенных. Вот именно эта невнятно-бунтарская романтика и привлекает сегодня молодежь. И ребята напяливают майки с портретами Че. Причем не только российские ребята — в Берлине, Амстердаме эти майки продаются тоннами. Леваки, считающие себя либералами, поклоняются своему кумиру во всем мире с одинаковым восторгом.
Но даже Альберто Гранадо, напарник Гевары по той легендарной поездке, писал, что его друг Эрнесто был типичным избалованным отпрыском состоятельной, вполне буржуазной семьи. Эдакий «лимузинный ленинист», впитавший с пеленок крайне левые взгляды, презирающий рутину ежедневной работы, наделенный недюжинным талантом ненависти и изнывающий от жажды власти.
В Мексике Гевара познакомился с Фиделем Кастро и его братом Раулем. Позднее Фидель признавался, что аргентинец Гевара произвел на него сильное впечатление. У самого Кастро не было, как уже говорилось, политических взглядов и принципов, он решал лишь вопрос, с какой руки ему сытнее есть. Гевара же был убежденным марксистом, умевшим отстаивать свои взгляды в самой сложной дискуссии.
После победы кубинской революции Че Гевара стал президентом Национального банка Кубы, а затем — министром промышленности. И снова противоречивые оценки. Немало историков и публицистов считают, что «умный и образованный Че показал себя как грамотный профессионал, досконально вникавший в тонкости порученного дела»[18], что он возродил кубинскую индустрию. Другие убеждены, что на посту президента Нацбанка он за несколько месяцев превратил в труху песо, а на посту министра промышленности первым делом пересажал всех руководителей предприятий, инженеров-профессионалов, объявил, что предприятиями должны управлять рабочие, и «в считаные годы довел экономику до разрухи, не имея даже самых элементарных знаний об экономике и развитии»[19].
Возникает вопрос: что же вычитал Гевара у Маркса, кроме призывов к свержению капитала? Похоже, что ничего. Все остальное ему было не на руку.
Кастро, добившись победы в собственной стране, твердо встал на путь укрепления личной диктатуры. В отличие от него Че Гевара был скорее коммивояжером от революции, ему претила рутина государственной работы, хотелось продолжать революционную борьбу в других точках земного шара. Идейные расхождения Гевары с Кастро постепенно нарастали. К тому же кубинцы восторженно почитали Гевару, что Фиделю было поперек горла.
Гевара попробовал раздуть революционную романтику в Африке, но неудачно. Тогда он отправился в Боливию. В уверенности, что уж там-то народ с нетерпением ждет его прибытия, чтобы подняться против военной хунты. Но боливийские крестьяне почему-то не торопились браться за оружие. «Крестьянские массы совершенно нам не помогают», — недоуменно записал в своем дневнике Че Гевара. Все его попытки разжечь революцию и тут провалились. Более того, именно боливийские крестьяне взяли Гевару в плен, а потом сдали его агентам ЦРУ, которые уже давно за ним охотились. И те казнили его ночью в лесу. Жаль, что так поздно. К тому времени он уже изувечил Кубу.
А собственно говоря, не все ли равно? Ну и пусть сегодняшняя молодежь воодушевляется гордым взглядом из-под черного берета и смоляными кудрями великого команданте. Эка беда! Тем более что десятки авторов в своих оценках Гевары расходятся. Но разобраться все же стоит. Это только кажется, что вопрос о личности Че Гевары не имеет прямого отношения к вопросу, откуда берутся деньги и как развиваться России. Имеет, и самое прямое.
Гевара не был Дон Кихотом XX века, увы! Он был маньяком, одержимым жаждой власти. Даже в революции его больше всего привлекала не утопия справедливости, а то, что революция — это прежде всего узаконенное насилие. Откуда доказательства такого радикального утверждения? Из собственных высказываний Гевары и свидетельств очевидцев.
«Для того, чтобы поставить человека к стенке, не требуется никаких юридических доказательств. Все эти процедуры — архаический буржуазный пережиток. Революционер должен стать хладнокровной убойной машиной, движимой чистой, ничем не замутненной ненавистью», — писал Гевара в гаванской газете. Или: «Для того, чтобы казнить человека, мы не нуждаемся в доказательствах его вины. Нужны только доказательства того, что его необходимо ликвидировать. Вот и все»[20] — это из еще одной его статьи.
По сути, то же, что писал и Ленин, и его соратники, во что верил Сталин, не кладя этого на бумагу. Но Гевара вдобавок испытывал еще и наслаждение от самого акта насилия. Любил наблюдать казни и пытки, охотно присоединялся к палачам, возбуждаясь от вида крови. После расстрелов любил сам добивать выстрелом тех, кто еще подавал признаки жизни. С особым вдохновением он инсценировал казни, ломая психику самых мужественных своих жертв.
И что из этого следует? Даже если Гевара был действительно маньяк-палач, какое это имеет значение для нашего разговора? Самое прямое: это история о том, что такое мифотворчество. Тот самый брак мышления.
Подлости, которые он сотворил, не исчерпываются тем, что он лично убил тысячи людей, а еще миллионы были убиты или умерщвлены в концлагерях. Сюда еще надо добавить и то, что он называл себя марксистом. А это как раз вносит окончательную путаницу в головы современников.
Марксистами называли себя и Ленин, и Сталин, и Мао Цзэдун, и Пол Пот. Марксистами называют себя все те, кто на самом деле рвется к власти, выдавая эту истинную страсть за стремление к всеобщей справедливости. И пламенные революционеры, снедаемые жаждой насилия, и левацкие книжники-либералы, одержимые утопией равенства, — все они так или иначе приходят к мечте о диктатуре. Они одержимы, а значит, нетерпимы и готовы принести в жертву своим идеям абсолютно все.
Именно эта циничная подмена понятий «равенство» и «справедливость» путает и калечит сознание современного человека. Именно она рождает социальную ненависть и непонимание того, что создание богатства есть благо, неравенство есть благо, ведь это соревнование в успехе и достатке, а равенство возможно только в нищете. Забывается, забалтывается в трескучих словесах истина о том, что равенство в нищете неизбежно приводит к лагерным баракам, к голодным смертям и террору. Даже когда диктатор одержим бескорыстным служением своему народу. Как ни удивительно, но бывает и такое…
Бескорыстный аскет
Именно бескорыстному служению своему народу посвятил жизнь Салот Сар, которого весь мир называет его партийной кличкой — Пол Пот. Аскет, имевший пару гимнастерок и не оставивший после себя ни дворцов, ни яхт. Начальное образование он получил в буддийском монастыре, но потом отправился в Париж, где окончил электротехнический институт. Там он, конечно, впечатлился левацкими взглядами, но все же — образованный человек, не каннибал, только что слезший с пальмы.
Он считал себя убежденным марксистом, но ни учение Маркса, ни даже реалии СССР не считал применимыми к собственной стране. Он твердо запомнил одно: Маркс всегда твердил о диктатуре. Камбоджа изберет самый особый из всех особых путей. Она очистится от эксплуатации, от жирующих вождей, вскормленных французскими колониальными правителями, от девальвированных буржуазных ценностей и идеалов и вернется в чистое помыслами, не испорченное деньгами аграрное общество равных и счастливых людей.
Откуда у человека, получившего образование в Париже, взялась идея фикс переделать страну на людоедский манер? Почему, начитавшись Маркса, он выдернул из десятков тысяч его страниц только убежденность в том, что диктатура несет благо? В его стране и пролетариата-то не было, не было и капиталистов, чью собственность можно было бы экспроприировать и превратить в общественную. Пол Потом двигала убежденность в благости аскезы, он был уверен, что все должны мечтать о жизни в равенстве нищеты.
Придя к власти, Пол Пот заявил, что преобразование общества должно свершиться — внимание! — за несколько дней. Квинтэссенция утопии об особом пути. Немедленно уничтожить города, умертвить интеллигенцию, расстреляв врачей, учителей, инженеров. Стереть с лица земли все, что хоть отдаленно напоминает о буржуазной цивилизации. Уничтожить книги, запретить иностранные языки. Переселить всю нацию в деревни, чтобы народ убедился, что истинное счастье — это равенство и чистота души, которые можно обрести лишь в аскезе постоянного труда на измор и плошки риса в день. Все иное — буржуазные излишества. Все, кто в этом не убежден до глубины души, — враги, которых необходимо методично, бестрепетно уничтожать. Но не просто уничтожать — их необходимо пытать, записывая, как они под пытками будут признаваться в своих преступлениях, в своей жажде наживы, в своем стремлении распространять знания о том, что в других странах люди живут по-другому. На этих записях должны учиться дети, новые поколения.
Пол Пот и его «красные кхмеры» были педантичны и последовательны, как в свое время нацисты. Они записывали в журналах подробности пыток и детальные признания своих жертв как доказательства, которые должны излечить от «нездоровых сомнений» остальную часть нации. Ту, которую власть ежедневно выгоняла работать, стоя по колено в воде на малярийных полях. Эти поля, задуманные как основа трудовой утопии, страны без денег и потребностей, оказались братскими могилами. До сих пор гиды, которые проводят экскурсии по местам тех могил и лагерей «красных кхмеров», не могут удержаться от слез.
Больше о марксисте Пол Поте можно ничего и не говорить. О том, как надругались над учением Маркса те, кто называл себя его последователем, — тоже.
Как поссорились Витте и Столыпин
Если и было в России время, не похожее ни на предыдущее, ни на последующее, то это рубеж ХІХ-ХХ веков. Поэзия Серебряного века, полотна группы «Бубновый валет», причудливые образы художников «Мира искусства», новая эстетика, авангард, формализм, декаданс… Это мы еще помним, все же в музеи иногда выбираемся. Но ведь расцвет искусства не возникает на пустом месте.
Нас учили, что это был период реакции и монархического мракобесия. «Победоносцев над Россией простер совиные крыла…» На самом деле было ровно наоборот. Это был период обновления и бурного развития. В последние 20 лет перед Первой мировой войной в России наблюдались самые высокие темпы роста экономики за всю историю. Страна вошла в десятку ведущих стран. Или даже в пятерку — по некоторым оценкам — трудно сказать: история переписывалась с тех пор на самые разные лады.
Да и какая сегодня разница, в десятку ли, в пятерку? Зачем современному человеку разбираться в тех двух десятилетиях перед первой Великой войной? Да все для того же, чтобы задуматься. В данном случае — о том, почему у нас не получается учиться даже на собственном опыте. Почему всегда в адрес реформаторов, старающихся вывести страну на общеевропейский путь, звучит злобная критика, а споры о том, куда идти стране, — что тогда, что сегодня — схожи до боли.
Двадцать лет тех реформ связаны с двумя именами: Сергея Юльевича Витте[21] и Петра Аркадьевича Столыпина[22]. Их диагноз был одинаков: Россия — страна отсталая, хотя у нее есть все, чтобы стать передовой. Оба стремились поставить страну именно на капиталистические рельсы. Обоих за это критиковали, травили, пытались убить… Как только кто-то начинал реформировать Россию, на него спускали всех собак! В последний раз совсем недавно — лет 30 назад…
При Витте строились железные дороги, мосты и порты, складывалась национальная банковская система. В страну шли иностранные инвестиции — Запад видел, что Россия превращается в новый Клондайк. Росла промышленность, Россия стала крупным экспортером зерна, леса, нефти, масла.
И тем не менее страна так и осталась отсталой, и никакого жонглирования понятиями тут нет! За успехом реформ стояла лишь неимоверная политическая воля горстки выдающихся людей. Витте и Столыпин сделали многое, но согласия в обществе от этого не возникло. А пока его нет, не может быть и движения вперед — сплошной разброд и непоследовательность. Уже тогда Россия считала себя уязвленной, униженной более развитыми державами и уже тогда искала какой-то «свой особый путь». «Она дорожила своим прошлым, не хотела превращаться в какую-то "условно" западную страну», — пишет историк М. А. Давыдов[23]. Эта уязвленность, инфантильная обида рождает самые сумасбродные идеи о пути развития страны, мешая национальному сознанию созреть, дорасти до единства. А без него отсталость не одолеть, сумбур идей ведет только к отсталости общества и к слабости власти, которая и стала главной причиной революций — и 1905-го, и 1917 года.
А что потом? Потом началась совсем другая история, в которой период модернизации имени Витте и Столыпина был так тщательно подчищен, что уже ничему никого не мог научить.
Дороги в России — больше чем дороги…
Казалось бы, где развиваться капиталу, если не в России после отмены крепостного права? Колоссальная территория — готовый самодостаточный рынок, природные богатства, многочисленное население, переходящее от натурального к товарно-денежному хозяйству, как только возникает возможность. Ан нет, развивался капитал медленно. В оборонных и смежных с ними отраслях — горнорудной промышленности, в производстве чугуна и стали, в машиностроении — доминировали государственные, казенные заводы, жившие вне законов рынка и тормозившие его развитие. Частный российский капитал складывался в основном из купечества и выбившихся «в люди» крестьян и ремесленников. Иностранного капитала в страну притекало немало, но гораздо меньше, чем могло бы, — инвесторов пугали хилые законы и средневековые практики. Но главным тормозом развития было качество рабочей силы. Крестьяне и «горнозаводские» крепостные, приписанные к казенным заводам и ставшие на рубеже ХIХ-ХХ веков формально свободными наемными рабочими, не были готовы к труду на современных промышленных предприятиях. Низкая производительность труда в России бросалась в глаза — невежество, лень, пьянство. Работа — наказание. Жизнь, впрочем, тоже…
Английский рабочий получал в четыре раза больше российского, а российский все равно обходился фабриканту дороже. «В Англии на 1000 веретен приходилось 3 рабочих, в России… — 16,6»[24]. В Европе уже в конце XVIII века были развиты ремесла и мануфактуры, при переходе к фабричному производству людям нужно было лишь переучиться. А это совсем не то же самое, что лепить фабрично-заводского рабочего из вчерашнего крестьянина.
С чего-то надо было начинать, и Витте взялся за расширение сети железных дорог. Отсутствие транспортных путей не только не давало сложиться единому рынку, лишало мобильности и капитал, и товары, и труд. Отсутствие дорог напрямую тормозило развитие сознания людей. Они проживали всю жизнь там, где родились, в замкнутости и изоляции, считая традиции данностью и не имея представления об остальном мире. Мы плохо понимаем истинную роль пространств, которыми привычно гордимся.
В середине 1880-х Витте, управляющий Общества Юго-Западных железных дорог, уже построил Одесскую железную дорогу. Тут его назначают министром путей сообщения, и он берется за прокладку железной дороги от Челябинска до Владивостока, знаменитой Транссибирской магистрали.
Азиатская часть России была оторвана от центральных европейских районов, да и в пределах азиатской территории единый рынок еще не сложился: в Иркутске ржаная мука продавалась по 1,5 рубля за пуд, а в Томске — по 45 копеек. Часто в Сибири хлеб вообще не находил спроса, а в центральных промышленных районах дневное содержание рабочих — то есть стоимость рабочей силы, если по Марксу, — доходила до 5 рублей из-за дороговизны хлеба. «Железная дорога, — утверждал С. Ю. Витте, — без сомнения, устранит эти… аномалии». Витте был намерен извести патриархальные формы товарообмена в Сибири, помочь капиталу освоить дремлющий потенциал азиатской части России, поднять уровень жизни простых людей. Это только кажется, что железные дороги «всего лишь» инфраструктура. Витте был прекрасным математиком и сам разработал систему новых железнодорожных тарифов. Ясно же, что стоимость перевозки товаров должна быть меньше разницы в ценах на рынках в разных частях страны, чтобы люди захотели пользоваться дорогами. Какую уйму расчетов надо было сделать, чтобы обсчитать все участки Транссибирской магистрали! Это, по сути, было определение пропорций будущего рыночного обмена. Сложится рынок при помощи новой железной дороги или нет — вот какова была цена вопроса.
Дальний же умысел Витте состоял в том, чтобы двинуть в Сибирь людей из европейского центра, ослабив там давление перенаселения на землю и одновременно оживив безлюдную Сибирь, где земли было на порядки больше, чем людей, желавших ею владеть. Какое же сопротивление вызвала эта затея! Помещикам был на руку избыток населения в центральных частях страны, позволявший поддерживать высокую стоимость аренды земли. Денег у крестьян не было, аренду они отрабатывали натурой. Помещиков приводила в смятение мысль, что переселение крестьян на восток может лишить их дармового труда.
Дороги строили ссыльные и каторжные, другого труда в местах прокладки магистрали не было. Снова дармовой труд — теперь на государство. Да и на его заводах рабочим, однажды прикрепленным к ним, особо некуда было податься. Не было рынка свободного труда. А значит, простора для капитала и быть не могло.
Умственные и житейские шатания
Витте расчищал дорогу капиталу в прямом и в переносном смысле слова. Убеждал сопротивляющихся, что нет смысла ломать копья в дебатах: надо идти по пути, проложенному Европой. Это сложно, ведь в России сложились совсем другие законодательные и культурные условия, но именно их и нужно менять не мешкая.
«Мы привыкли не воспроизводить жизнь, изучая и принимая во внимание течения западной жизни, а строить ее, копируя… факты из жизни то одного, то другого западного государства, часто даже без изучения ее течения, — писал Витте в «Воспоминаниях». — От этого… наше умственное и житейское шатание между… противоположными течениями, действиями и мероприятиями. Ради одних западных учений мы становимся на путь свободного обмена, убивая некоторые отрасли промышленности; затем ради других учений мы силимся возродить… [их] путем усиленного покровительства»[25].
Будто сегодня писано! Послушаешь заклинания о модернизации-диверсификации и улучшении инвестиционного климата — вроде наши кормчие понимают, что нужны реформы, а для этого требуются в том числе и иностранные инвестиции, и передовые технологии, которые несет иностранный капитал. И тут же снова фантазии — хорошо бы взять у Германии вот это, а у Китая — вот то. Нет ни последовательной экономической политики, ни желания объяснить людям, где именно лежит путь к деньгам для них самих и для всей страны. От этих умственных шатаний только закрепляется брак мышления. Люди уже с трудом различают, что есть норма, а что — психический вывих собственного сознания.
— Правда, что в Штатах полицейское государство? — недавно спросил меня типично средний москвич, регулярно читающий новости, причем на всех ресурсах подряд, что, возможно, его и подводит…
— В каком смысле «полицейское»?
— Ну… типа все по закону, никому денег не дать, чтоб вопрос решить…
И тут же, после паузы, этот типичный москвич принялся возмущаться российской коррупцией. Как одно уживается с другим? А запросто: ум цепляется за отдельные факты, не пытаясь сложить их в цепочки причин и следствий. Хочется «решать вопросы» в обход закона, за деньги — это же удобно. При этом возмущает живодерство чиновников — вот совести нет! Сохранить одно, но изжить другое — не абсурдно ли? Но и на это у вывихнутого сознания готов ответ: «А почему нет? Мы ж великая страна. У нас свой путь». Людям кажется, что если мы станем как все, то чем тогда гордиться? А спроси их, что это за «особый путь» такой к лидерству в мире и достатку в стране, — ни одного внятного звука. Теперь уже даже без паузы, на том же дыхании, принимаются скорбно вздыхать: «Ой, у нас все не как у людей». Вот и пойми, какой они, собственно, хотят видеть страну…
На посту министра финансов, а затем премьера Сергей Юльевич Витте провел денежную реформу, привязав курс бумажных денег к золотому рублю, то есть стабилизировал денежно-финансовую систему. Реорганизовал работу Дворянского и Крестьянского банков, они стали расширять кредитование и помещиков, и крестьян, пуская в новый оборот отобранные за долги разорившиеся поместья, которые их хозяева не сумели перестроить на рыночный лад. Стал возникать рынок земли, агробизнес начал становиться на капиталистическую основу.
Витте умудрился извести казнокрадство и даже тупой непрофессионализм в огромном государственном секторе. Пожалуй, при нем госпредприятия функционировали эффективнее, чем когда бы то ни было. Он не ограничился этим, а вкладывал полученные казной дополнительные доходы в поддержку частного предпринимательства. Ни до, ни после него никто этого не делал. До сих пор.
Со знанием дела Витте маневрировал между политикой свободной торговли и протекционизмом. Стимулировал импорт, закупая за границей сталь, чтобы не замедлять железнодорожное строительство. Одновременно ограждал высокими тарифами текстильную, швейную, пищевую промышленность, защищая русский капитал, который в этих отраслях уже развернулся, даже давал капиталистам налоговые льготы на импорт современного оборудования — сегодня мы сказали бы «поддерживал внедрение высоких технологий». И тут же всячески способствовал притоку иностранного капитала в те же самые отрасли. Чтобы российский производитель не расслаблялся…
Мы видим сегодня, как работает — или не работает — импортозамещение в агробизнесе. Запретив антисанкциями импорт сыра, ветчин, помидоров, наше государство не открыло другой рукой доступ иностранному капиталу в эти отрасли, чтобы сыры и колбасы производились в России. Отечественный производитель обрадовался: ему помогли встать на ноги. На прилавках появились, к примеру, тугие краснодарские помидоры вместо водянистых голландских. Но в тепличных условиях производитель тут же и оборзел. Зачем думать, что рано или поздно запреты на импорт снимут и надо готовиться к конкуренции? Взвинчивай цену на гречку, вари сыр из простокваши, мыла и пальмового масла — и все дела. Тупое импортозамещение без стимулирования иностранных инвестиций, которые создают конкуренцию, еще ни одной стране ничего хорошего не принесло.
Каждое направление реформ Витте заслуживает отдельного рассказа. Но в контексте размышлений о том, откуда берутся деньги и почему их поиск в России оборачивается такой драмой, на первый план выходят три задачи, которые решал Витте. Во-первых, привлечение иностранного капитала вопреки сопротивлению тех, кто считал это кабалой для страны. Во-вторых, ослабление и размывание общины, средневекового реликта. И в-третьих, издание в разгар революции 1905 года Манифеста 17 октября, который должен был положить начало созданию новой архитектуры государства и формированию гражданского общества.
Иностранный капитал, международные кредиты и займы
Думаете, страх и неприязнь в отношении иностранного капитала появились в России только сегодня? Вот уж нет, они культивировались в нашей стране постоянно. Не раз Россия с помощью иностранных займов, инвестиций и концессий выруливала на путь устойчивого развития. И тут же властные силы начинали спешно рвать и делить неспелые плоды с деревьев, на которых растут деньги… Большевики — при уничтожении НЭПа, Сталин — в ходе индустриализации. На всех отрезках истории рано или поздно иностранным инвесторам приписывался умысел обобрать Россию, а тех, кто привлекал их в страну, клеймили за продажу Родины. Попользовавшись тем, что создал иностранный капитал, его тут же гнали взашей. Даже не скажешь, чего в этом больше — глупости или бесстыдства. Пороки внутреннего устройства признать невозможно, а внешний враг — вот он, пришел нажиться.
Российский бюджет во времена Витте был скуден, и с этим можно было бы жить, если бы не задача модернизации. Витте нужны были инвестиции, он бестрепетно набирал иностранные кредиты для строительства железных дорог, укрепления банков, реорганизации государственных предприятий — сильное государство не боится брать в долг. А нынешние кормчие страны боятся. Внешний долг России сегодня меньше 20% ВВП, зато нет денег, чтобы вкладывать в инфраструктуру. Да ведь это значит расписаться в собственном бессилии, по сути признать, что страну никогда не удастся поднять настолько, чтобы вернуть долг.
За долги европейским странам Витте ругали все, включая государя Александра III. Действительно, в политике никто не бел и не пушист, у кредитора всегда есть желание использовать выданные займы как рычаг давления на должника. Но это же азбучная истина, которую надо просто учитывать в расчетах. И когда заем, полученный Россией от Франции, стал обрастать кабальными условиями, Витте сумел, выражаясь современным языком, перекредитоваться у Германии. Это просто вопрос профессионализма.
В правительстве и при дворе отношение к иностранным инвестициям было самое негативное, и Витте снова приходилось сражаться. На крики — точь-в-точь как и сегодня — о кабале и утрате самобытности страны он отвечал, что за самобытность принимается банальная отсталость. «Капиталы, как и знания, не имеют отечества, — утверждал он. — Раз богатство создано, оно стремится туда, где в нем наибольшая нужда, где его лучше оценят, лучше сумеют им воспользоваться… Говорят, что иностранные капиталы грозят будто бы самобытности страны и если не спешить, то можно обойтись и собственными капиталами для создания промышленности и новых капиталов. Но великая страна не может ждать !»[26]
Современная Россия эту мысль не усвоила. Рыночные реформы 1990-х годов выдохлись, не успев принести первые плоды, а для реформ ох как важно не упустить момента! В стране не было денег, чтобы вдохнуть жизнь в лежачие заводы, быстрее насытить рынок товарами, смягчить падение уровня жизни людей. Отчаянно был нужен капитал — любой национальности. Но никто не торопился писать законы, защищающие инвесторов, не спешил давать льготы тем, кто был готов пуститься в новое дело с русскими партнерами, принеся с собой капитал.
В начале 1990-х иностранцы обивали пороги кабинетов, предлагая проекты — от быстрой застройки обветшавшего центра Москвы до переоснащения ключевых металлургических предприятий. Все переговоры тонули в трясине — опасались прогадать. А к началу нулевых сурово-запретительное регулирование иностранных инвестиций — чтоб, не дай бог, чего не натворили, — поставило на этой теме крест: кроме единичных смельчаков, в Россию никто из иностранцев уже и не рвется.
Что может быть лучше чужих денег? Во всем мире самая острая конкуренция идет не за нефть или другие ресурсы, а именно за чужие деньги — иностранные инвестиции. В России же твердят об улучшении инвестиционного климата, а на практике только заботы — как отгородиться от инвесторов. Так что если вы тоже думаете, что отдать землю в аренду китайцам в вашем, к примеру, Забайкалье — это путь в кабалу, то утешьтесь: в этой убогой мысли столь же мало оригинальности, сколько и правды.
Знаковое здание в центре Нью-Йорка, украшение «Большого яблока» — Рокфеллер-центр. Это 14 высотных зданий в стиле ар-деко, где расквартированы крупнейшие корпорации. Каждый год на Рождество там ставят главную елку страны, а церемонию зажигания свечей на ней в рождественскую ночь транслирует национальный телеканал NBC. Что страшного случилось от того, что в 1989 году японская группа Mitsubishi выкупила этот квартал у семьи Рокфеллера? Он перестал был украшением нью-йоркского мидтауна? Стал инструментом насаждения «японских порядков»? Большинство американцев и не ведает, что они наслаждаются рождественским сезоном в японском квартале…
Не нравится пример Нью-Йорка? Пожалуйста, вот другие: производство японских тракторов Komatsu и немецких автомобилей Volkswagen в Калуге и BMW в Калининграде. К сожалению, такие примеры можно по пальцам пересчитать. А цена, которую мы платим за опасливое отношение к иностранному капиталу, огромна.
Сколько сырого леса вывозят из России шведы и финны, хотя на экспорт сырой древесины существует масса ограничений? Иностранцы обходят их правдами и неправдами, а мы только ужесточаем инструкции — чтоб не обходили, гады! Насколько разумнее было бы дать иностранцам льготы, побудить их перерабатывать древесину в России. Это бы привело и к созданию новых рабочих мест, которые сейчас возникают не у нас, а по ту сторону границы. Возникла бы российская — именно российская! — высокая лесопереработка и новейшие мебельные и бумажные технологии. А сейчас Россия вывозит сырую древесину и целлюлозу, а всю мелованную бумагу для глянцевых журналов, кондитерки и парфюмерии, которую делают из нашей же целлюлозы, покупает в Финляндии. Курам же на смех!
«Мы сами уже поглотили столько иностранных капиталов, явившихся к нам в виде знаний, орудий труда, денег, — повторял Витте, — ассимилировали стольких иностранцев, пришедших в качестве мастеров, хозяев предприятий, учителей, что странно даже говорить о какой-то опасности для русской самобытности от ищущих у нас заработка иностранцев и их капиталов… Предубеждение против иностранного капитала у нас доходит до того, что заводится речь о каком-то заполонении России иностранцами, распродаже русских богатств и экономической оккупации. Точно речь идет о совсем отсталых Индии или Египте. Но это уже равносильно слепоте: это значит не знать своей великой истории, не верить в свои великие силы»[27].
Витте доказывал, что российские порядки таковы, что не много иностранцев желают иметь с Россией дело. Именно порядки надо менять, а не иностранцев запретами обкладывать. Тот самый иностранный капитал, которому Витте старался создавать условия, вытягивал из деревни людей, превращал неграмотных, некультурных мужиков, выработавших за века неволи отвращение к работе, в обученных рабочих. Давал им тот самый достаток, которого они отродясь не видели.
Так и остается загадкой, почему укоренилось в российском сознании убеждение «что немцу хорошо, то русскому смерть». Понятное желание видеть свою страну великой оборачивается дикими идеями о том, что рассчитывать на чужие деньги — позорно и опасно. Но ведь в этом и состоит искусство государства и задача экономического управления — заставить чужие деньги работать на свой народ. Вместо этого его стращают «западными ценностями». Дешевка ведь это, но как любят ее повторять лидеры нашего парламента — Госдумы.
Догоняем особым путем… Кружным, что ли?
При всем желании сделать страну передовой ни государь, ни либеральные дворяне не хотели ее индустриализации. Промышленность ведь рождает такой опасный феномен, как пролетариат, а там рукой подать и до других ужасов, которые пророчит какой-то Маркс. Но дальше — хуже. Они и проблему аграрного развития страны собирались решать «особым образом», никто не рвался менять отношения в деревне. Отсталость, заскорузлость мышления «образованного класса», который призван «сеять разумное», преследуют Россию уже полтора века. «Мыслящие и образованные» играют в развитии страны весьма противоречивую роль.
Копья ломали по вопросу о земле. При нормальном развитии капитала помещики либо превращают свои поместья в крупные капиталистические аграрные производства, либо, разоряясь, как это показал Чехов в пьесе «Вишневый сад», вынуждены продавать поместья кусками или целиком лопахиным, то есть любым предприимчивым людям, включая крестьян.
Помещики не могли отказаться от привычной жизни на широкую ногу, не думая о том, что им больше не видать бесплатного труда крепостных. По два-три раза закладывали и перезакладывали свою землю в бессилии распорядиться ей разумно. Но тут в процесс вступал Крестьянский банк, который Витте для того и создал. Он забирал землю за неуплату долгов, продавал ее кусками крестьянам по относительно доступным ценам. Так что не торопитесь легковерно соглашаться с «марксистами», которые обвиняют Витте и Столыпина в том, что ни тот ни другой «не решился покуситься» на помещичье землевладение. Горячиться не стоит, просто для этого не обязательно что-то у кого-то отнимать. Можно и без насилия. Витте и Столыпин делали свое дело, пока остальные были заняты спорами о справедливости или несправедливости раздела земли с отменой крепостного права.
Спор, в сущности, бессмысленный — справедливых дележек не может быть в принципе! Не так важно, были ли условия изначально справедливы, важнее — есть ли возможность свободно и добровольно менять их по ходу дальнейшего развития. Российская интеллектуальная элита не хотела этого понимать ни во времена Витте и Столыпина, ни спустя почти век. Ее стоны о несправедливости приватизации 1990-х только подливают масла в котел социальной неприязни, которую обыватели питают к нарождающемуся капиталу, фактически давая государству моральное право тихой сапой прибирать к рукам то, что этот капитал в свое время приватизировал. И ведь вот что интересно: все «мыслящие» — сплошь за рынок, за развитие капитала, а сами ставят ему палки в колеса. Да еще прикрываясь заботой о народе, которого в грош не ставят, как сами признают.
В начале XX века «мыслящие» под флагом заботы о крестьянстве рубились по вопросу о том, превратятся ли крестьяне из рабов в «обеспеченное сельское сословие» или в «батраков с наделом». А какая разница-то? Каждый батрак с наделом может либо превратиться в «обеспеченного», либо, потеряв надел, заделаться нормальным пролетарием и жить будет не хуже, потому что и с наделом его жизнь была отнюдь не сахар. В Англии тоже поместья ни у кого не отнимали, жизнь заставила самих земельных аристократов отрезать от своих владений куски на продажу — причем процесс этот пошел уже в основном не в XX веке, и никакому развитию эти поместья не мешали, все шло естественным путем.
За надуманными спорами не хотели видеть главного: крестьянин — хоть с большим наделом, хоть с меньшим — не стал свободным. Поземельная община, «мир», попросту заменила помещика, дав крестьянину ничуть не больше свободы, чем было у него при крепостничестве. У него не было ни собственности, ни гражданских прав, он для закона не существовал. Субъектом права и собственником земли оставалась община, но не крестьянин.
В общине можно было по-прежнему пороть крестьян по распоряжению общинного старосты, отбирать у них землю, перераспределять наделы. Никакого закона, регулирующего отношения общины и крестьянина, не было в принципе, были лишь практики и традиции. Не оттуда ли происходит сегодняшнее отношение к закону как к химере, которая в реальной жизни никого не защищает? И не оттуда ли растут корни неписаных традиций и практик, которые бездумно передаются из поколения в поколение и по лекалам которых так и живет большинство населения?
А российским «мыслящим» начала XX века именно в общине, где обычай стал синонимом произвола, виделась особая русская самобытность, что и сегодня нам аукается, да еще как! Оттуда идут слезливо-патриотические причитания, что общинное начало, коллективизм — наши славные традиции. Община имела какой-то смысл, когда еды в деревнях хватало едва ли до середины зимы, а потом всем вместе нужно было не подохнуть с голоду. Как и крепостничество, община была не лучшей школой нравственности — причем для всех сословий. Не ведая, что в основе власти должен лежать закон, крестьяне воспринимали власть как силу, действующую как ей удобно. Власти же было вообще безразлично, что творится в общинах, лишь бы платили подати.
Крестьянин не мог применять агрономию или технику. Какой смысл, раз земля постоянно перераспределяется? Неграмотные общинные старосты и общинные сходы заменили помещиков в этом новом издании крепостничества. Расслоение крестьян на капиталистических фермеров и наемных рабочих было заблокировано, а круговая порука не позволяла преодолеть групповое мышление. И выйти из общины крестьянин не мог без согласия схода. Крестьяне не могли быть ответственными за собственный достаток, зато у них было чувство, что в общине никому не дадут пропасть. Жили без понимания природы денег, которые в общине роли не играли.
И всех это устраивало! Правительство и буржуазия считали, что община хранит народ от пролетаризации, а значит — и от вредных коммунистических идеек. А уж революционные демократы — это просто песня! Они верили, что община — это прообраз социалистической ячейки общества. В ней уже все общее, как должно быть при социализме. И не нужен никакой капитал, эта бесполезная и полная тягот фаза развития. А кто будет создавать богатство, кто сделает страну передовой — крестьянин с сохой, что ли? Крестьянин, у которого не только трактора нет, но часто и плуга? Капиталу же, который способен использовать этот труд для создания общественного богатства, этот труд взять негде. Необъяснимо, почему передовые умы вплоть до Герцена и Чернышевского видели в общине какую-то перспективу развития. Может, они ее и не искали, им дороже была романтика равенства.
Мы, сегодняшние, на 80% потомки крестьян. Крепостническая, а потом общинная психология передавалась из поколения в поколение. При Совдепии, где личной свободой, личной ответственностью и не пахло, она лишь закрепилась. Работа — наказание, водка — наказание, даже жизнь — наказание. Общинный беспредел и круговая порука засели в подкорке как естественные принципы устройства жизни: «Выше головы не прыгнешь», «Закон что дышло — куда повернешь, туда и вышло». Нет привычки думать, как создается богатство, зато есть любовь к его частой и «справедливой» дележке.
Наши «мыслящие и образованные», горячие спорщики, считают, что им крайне не повезло с таким народом. Хотя самым прямым образом приложили руку к тому, чтобы народ оставался именно таким, какой есть.
Подданные или граждане?
Гражданско-правовая неполноценность основной части трудового народа устраивала абсолютно всех. Хотя революционные демократы были твердо намерены осчастливить народ, ими владела одна страсть — сбросить тиранию монархии. Будто монархия — препятствие для гражданских свобод. Разве их нет в Британии, или Бельгии, или Швеции? Не монарх препятствие для гражданских свобод, а отсутствие закона, который определяет и защищает права каждого. Лучше бы демократы озаботились Гражданским кодексом — самым базовым законом для любой страны! Мало кого это волновало, кроме Сергея Юльевича Витте и его ближнего круга.
Витте пришел к вершине своей власти — должности главы Кабинета министров — в 1905 году, после искусно заключенного им Портсмутского договора с японцами, смягчившего поражение России в позорной войне 1904-1905 годов, в разгар революции 1905 года. Ему было ясно, что этому бунту, по-русски бессмысленному и беспощадному, можно противостоять, лишь определив права всех граждан, уравняв все сословия, обозначив пределы допустимого и недопустимого протеста против действий государства. Ему была ясна важность национального согласия. Он стал готовить Манифест 17 октября и убедил государя в необходимости Государственной думы как законодательного, а не совещательного органа.
Пожалуй, главным в Манифесте было его целеполагание, заявление, написанное собственной рукой Витте: «Россия переросла существующий строй и стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». В преамбуле говорилось, что революцию 1905 года нельзя списывать на частные несовершенства власти, на недовольство народом отдельными порядками.Государственным устройством недовольны все.
Вроде бы вот он, путь к конституционной монархии. Ан нет, опять нет! Образованные высшие слои действительно жаждали политических свобод. Но только для себя. Они не видели необходимости уравнивать перед законом все сословия, превратив и помещиков, и крестьян, и рабочих из подданных в граждан.
Помещики были не в силах отказаться от несвободы крестьян. Никто не мог поступиться сословностью как таковой — «как это так, не могут же все быть равны». Неравенство в положении на социальной лестнице, неизбежное и естественное, в головах «мыслящих» путалось с неравенством перед законом, которое недопустимо в гражданском обществе. В тексте своего доклада о необходимости Манифеста Сергей Витте выделил единственное предложение курсивом: «Все гражданские свободы должны вводиться не иначе, как путем нормальной законодательной работы». Это могло бы остановить дальнейшее развитие баррикадных настроений. Но и в этом вопросе он был бит со всех сторон, и больше всего со стороны радикально настроенной интеллигенции, оппозиционеров царской власти.
Витте сделал на удивление много: он вывел Россию из экономической отсталости реформами сверху, которые проводил твердой рукой; он подобрался и к ключевой причине отсталости — отсутствию общегражданского равенства, необходимого условия развития капитала, и к разделению властей в государстве, и к превращению правительства из набора дублирующих друг друга ведомств в слаженный механизм исполнительной власти. Но это было не нужно ни государю, ни «мыслящим и образованным» всех оттенков — от кадетов до революционных демократов и набиравших силу большевиков. Уже тогда к опыту стран, которые Россия все пыталась догнать, отношение было пренебрежительное. Еще один исторический пример любви великороссов наступать на собственные доморощенные грабли. Осенью 1906 года Витте уходит в отставку…
Единство реформ и различие двух личностей
И Витте, и Столыпин прекрасно сознавали, что путь у России — капиталистический, ему надо расчищать дорогу. При этом Витте причислен к величайшим реформаторам России, а Столыпин стал для поколений историков одной из самых неоднозначных фигур, для многих — отвратительной.
Сергею Витте, человеку столичного мировоззрения, глубоко впитавшему западные ценности, либералу европейского склада, нужны были конституция, Дума, представительство всех сословий в выборной власти. А Манифест, на который он положил столько сил, вышел ни рыба ни мясо — в Думе крестьяне были представлены через три ступени выборов, к тому же на 80% крестьянского населения приходилось лишь 45% выборщиков. Но это был не единственный дефект Думы: все сословия, представленные в ней, были так или иначе окрашены если не в красноватые, то точно в розоватые тона романтической революционности. Просто потому что мода была такая! Но она вполне уживалась с уверенностью в том, что нет никакой необходимости гражданских свобод для 80% населения страны. У крестьян оставался лишь один способ борьбы за свои интересы — дрын, вилы и поджоги помещичьих усадеб.
Столыпин никаких оттенков розового не признавал и с баррикадными настроениями, которые подогревала Дума, мириться не мог. Ему нужно было продолжать реформы. А как расчищать дорогу капиталу, если ни монархисты, ни октябристы-либералы, ни даже трудовики или революционные демократы не видят в собственном народе, в крестьянах — социальных партнеров? И когда Петр Аркадьевич счел, что от этого реформы буксуют, он не моргнув глазом в 1907 году разогнал Думу, что даже его сподвижники сочли бесстыдством. Это ему не простится никогда.
Необходимость ускорения реформ плохо уживается с тем, что демократию можно вырастить только терпением. В 1993 году Ельцин разогнал Совет народных депутатов ради продолжения реформ. Под вывеской демократии депутаты, демократическому поведению не обученные и ответственностью за реформы не обремененные, месяцами толкли воду в ступе, блокируя любые конструктивные решения. Национальное несогласие нарастало. Было ли решение Ельцина преступлением? Да это вообще никого не взволновало! При всей хуле Ельцина этот шаг ему лыком в строку не ставится, хотя удар по демократии в принципе помножил в глазах россиян на ноль ее ценность как таковую.
Столыпин не был невежественным реакционным политиком. Он был настолько «западником», так ясно видел, что у России нет иного пути, кроме капиталистического, что стал ужасающе немодным. Либералы и реакционеры, народники и анархисты — все видели в России нечто совершенно отличное от всего остального мира. Одни считали ее аграрной страной, которой не нужны закопченные фабрики, порождающие социальные катаклизмы. Другие усматривали справедливость в круговой поруке, то есть царящем в общине произволе. Третьи объявляли общину готовой ячейкой будущего бесклассового общества.
Конечно, если нет амбиций величия, можно страну видеть как угодно. Но нельзя иметь к карте мира какие-то претензии, консервируя при этом самобытность в виде отказа от всех рациональных инструментов развития.
Американский историк Мэсси считал, что Столыпин «не имел ничего общего ни с политическими деятелями из высшей столичной знати, ни с педантичными профессиональными чиновниками. Он привнес в столицу и в высшие правящие круги искренность, силу и жизнеспособность того огромного числа энергичных людей, которые населяли провинции России»[28].
И тем не менее Столыпин прославился не реформами, а лишь своими вагонами, в которых якобы насильственно везли людей в Сибирь как скот, и своими «галстуками» — виселицами, на которые военно-полевые суды посылали людей на счет «раз». Понятно, что при Великом строе ненависть к Столыпину культивировалась идеологией. Подумаешь, какие-то ГУЛАГи, при царе, мол, и не такое творилось… Но ведь и сегодня самые, казалось бы, просвещенные и либеральные историки поют все те же «старые песни о главном»! Столыпинские вагоны и столыпинские галстуки. Вагоны и галстуки, галстуки и вагоны… Сатрап, утопивший страну в крови… Русские либералы-оппозиционеры не меняются: сегодня, как и при Витте-Столыпине, заикнуться о чем-то положительном в действиях власти — это предательство святого дела оппозиции. Неудивительно, что молодежи эти споры глубоко безразличны. Им надо понимать, как жить, где брать деньги и как растить детей. Им подавай конкретику.
Так вот о конкретике. Дебаты вокруг аграрной реформы Столыпина — это борьба идей о том, нужна ли России частная собственность на землю. Из рук Петра Аркадьевича 100 млн крестьян впервые в русской истории получили право быть собственниками земли! Не декоративно, как после отмены крепостного права, а по закону. Они получили и право выйти из общины, если хотели, и право жить, как считают нужным и где считают нужным, — в уютных, но перенаселенных центральных губерниях или в морозной Сибири, где никто не ограничен в земле и можно начать с чистого листа собственное дело.
Столыпин объявил, что вопросу личной собственности он придает «коренное значение»: нельзя «ставить преграду крестьянину», он должен быть свободен трудиться и богатеть. Его правительство «ставило ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». Спустя 70 лет почти теми же словами выразится другой реформатор в другой стране — Маргарет Тэтчер. Вот ее слова: «Работяг поддержать и поставить на ноги, лодырей — вон». Она сражалась за крепкого личного собственника, и ее победа спасла королевство, которое в 1960-1970-х стало крениться набок. Столыпин говорил практически то же самое: «Крепкий личный собственник нужен для переустройства нашего царства на крепких монархических устоях». За это на него налепили ярлык ретрограда.
Исторические аналогии — дело опасное. Нельзя сравнивать Россию начала XX века с Англией последней четверти того же века. Но можно сравнивать убеждения политиков и реформаторов хотя бы ради того, чтобы понять: вариантов развития у любой страны в любое время немного. Капиталистический путь, рынок, гражданские свободы — непреходящие ценности для тех, кого принято называть консерваторами. Для тех, кто не склонен к лихим социальным экспериментам и революционной романтике. Именно эти убеждения — при всей несхожести исторических контекстов — разделяли и Столыпин, и Тэтчер.
Столыпинская аграрная реформа
Критики Столыпина считают, что раз Столыпин не разрушил общину, то, значит, его реформа провалилась. А тот и не собирался ее рушить! Он дал крестьянам возможность добровольного выхода из нее. Не чувствуете разницы?
Можно только поражаться, как удалось Столыпину провести землеустройство. Сколько потребовалось землемеров, сколько пришлось проделать колоссальной бумажной работы, чтобы ликвидировать чересполосицу. Иначе нельзя было дать крестьянину, вышедшему из общины, цельный кусок земли, на котором только и возможно ведение безубыточного хозяйства. Сколько потребовалось агрономов, чтобы научить крестьян получать урожаи. Сколько внешкольных классов надо было открыть по всей России, чтобы объяснять крестьянам основы агробизнеса.
Столыпинская реформа, побудив крестьян выходить с землей из общин, создала условия для индустриализации в сельском хозяйстве. Крестьяне стали применять машины! Конечно, не было денег, но возникали станции проката оборудования, кооперативы и земельные товарищества — по сути, зародыши акционерных обществ. Поэтому не провалом закончилась реформа, как даже сегодня считают многие. Она закончилась убийством Столыпина, а вскоре после этого — войной. «Известный российский исследователь Игорь Бунич убежден, что, если бы программа Столыпина воплотилась в жизнь, к 1940 году Россия экономически обогнала бы США и эволюционным путем пришла бы к парламентской монархии»[29].
Конечно, дело шло трудно! Как иначе: в континентальной Европе ликвидация чересполосицы и землеустройство на капиталистический манер, начавшись еще в XVI веке, продолжались три века. Крестьяне всех стран консервативны и крайне невосприимчивы к переменам. В Германии, Финляндии, Польше они в массе своей не хотели жить на хуторах, а продолжали держаться за свои деревни, лишь несколько упорядочивая чересполосицу, но не отказываясь от нее. Случаи стихийного народного творчества в таких вопросах крайне редки. Во всех странах это дело энергичных правительств и просвещенных помещиков. Крестьяне начинали верить в эффективность обособленного хозяйства только на живых примерах, не быстро и не легко. Люди всегда привержены привычному укладу жизни, «это слишком по-человечески», как говорил Витте. Столыпин же повторял, что общинный вопрос нельзя решить, его можно только решать.
Из общины за годы реформы вышло меньше половины крестьян, что тоже ставится Столыпину в вину. Надо иметь медный лоб, чтобы полагать, что сознание, которое формировалось в течение двух веков крепостничества и полувека после его отмены, вдруг враз изменилось бы оттого, что крестьянин получил бумажку о собственности на землю. Сознание и сегодняшнего традиционного сектора меняется крайне медленно. И сегодня «мыслящие и образованные» ставят народу в вину его «общинную психологию», не желая понимать, что превращение крестьян в свободных собственников было перечеркнуто революцией, а затем общинное мышление только закреплялось все последующие 70 лет.
Тем не менее к началу Первой мировой войны из общин вышло более 30% крестьян. В центральных частях Европейской России, на ее юге эта цифра превышала 50%. Это уже было качественным изменением и в экономике, и в сознании.
Ставится Столыпину в вину и другая мифическая неудача: дескать, народ страдал от малоземелья, а этот вопрос Столыпин не решил. Между тем средние наделы в России были в полтора-два раза больше, чем в большинстве стран Европы. Не в безземелье было дело, а в почти первобытном земледелии, которое истощало земли за несколько сезонов. Варварская эксплуатация земли, неизбежная при постоянных ее переделах, как раз и создавала видимость нехватки земли. Реформаторы же обеспечивали крестьян агрономами, открывали школы земледелия, стимулировали ссудами применение техники, внедряли кооперативы. В коротком очерке невозможно описать, какого масштаба аграрно-техническую революцию произвела реформа.
Крестьянский банк уже не просто распродавал перезаложенные помещичьи участки, но перед этим проводил на них землеустройство. Когда вполне приличные, цельные наделы стали продаваться крестьянам, тут и произошел перелом в отношении крестьянства к реформе. За 1907-1908 годы поступило более 700 тысяч заявлений о проведении землеустройства. На более крупных наделах можно было разделять землю на пахотную и кормовую, началось быстрое развитие животноводства. Начался невиданный ранее экспорт: в 1910 году Россия стала экспортировать птицу, свинину, молоко и яйца. За годы реформы прирост капитала в деревне превысил 1,5 млрд рублей — немыслимо много для того времени и «того» рубля.
М. А. Давыдов в книге «Двадцать лет до Великой войны: Российская модернизация Витте — Столыпина» скрупулезно, с цифрами в руках показывает, как в каждой из российских губерний менялся севооборот, как по крупицам прививались новые знания, как людей учили обращаться с техникой. Нет возможности пройтись по всем пунктам его исследования, придется ограничиться выводом: «Время делает свое. Казавшееся несбыточной мечтой становится с течением времени осуществимым. Весь материал, брошенный в деревню в виде различного рода агрономических мероприятий (показательные поля, беседы, прокатные пункты), дает солидную работу мысли сельскому обывателю, и эта мысль выбивается… на правильную дорогу; дорога эта — маленькие, но постепенные, упорно проводимые хозяйственные улучшения». «Успехи агрикультуры колоссальны. В течение 4-5 лет произошла магическая метаморфоза»[30].
Есть два вида реформ, которые в корне меняют жизнь обычного человека. Одни просто сменяют старый тип жизни на новый, и человеку остается его только принять, как-то к нему приспособиться. Другой вариант — когда ему предлагается выбор! Человек может продолжать жить как жил, а может попробовать жить совсем иначе.
«Он может выйти из общины, а может остаться в ней, может поддаться на уговоры агронома и купить сеялку или жатку, а может проигнорировать их, может стать членом кооператива, а может думать, что это "баловство"… Но теперь он может устроить жизнь, как хочется ему. Он волен выйти из общины на хутор или отруб, уехать в Сибирь, на шахту в Юзовку или куда угодно, продав землю за нормальные деньги, а не за бесценок "миру"»[31].
Столыпин не разрушил общину. Он дал крестьянину выбор… Почувствуйте разницу, черт возьми!
Колонизация или интеграция?
Низкая производительность труда в общине, помимо прочего, способствовала и чудовищному перенаселению европейской части России. Когда земледелие ведется экстенсивно, а для покупки техники денег нет и быть не может, как не было их у крестьянина-общинника, нужно очень много рабочих рук. Высокая рождаемость, чудовищные жилищные условия, детский труд и огромная смертность. Ни одна культурная нация Европы не вынесла бы такой степени перенаселенности, такой скученности, в которой жила русская деревня. Такое бывало только в самых отсталых аграрных странах, в колониях. К этой мысли мы вернемся в конце книги, так что стоит ее не забыть.
Столыпин взялся за неподъемную задачу — принялся переселять крестьян на восток. Смягчить перенаселенность центра, побудить тем самым крестьян использовать технику и одновременно — соединить рабочие руки, излишние в центральной части, с неосвоенными богатствами колоссальных территорий Сибири. Он продолжал путь, начатый Витте. За 1906-1913 годы было переселено 2,7 млн человек.
Было по-всякому, это правда. Правда и то, что людей перевозили в теплушках, едва пригодных для скота. Правда и то, что строились вагоны с туалетами, в которых полагалось горячее питание, а переселенцев сопровождали врачи. Были и планомерные программы поддержки переселяемых в новых местностях, и были массы «самопереселенцев», которые ехали в Сибирь вообще без поддержки властей, без подъемных — программ было меньше, чем желающих переселиться и начать новое собственное дело на практически неограниченных землях. Были кражи багажа, падеж скота, была и холера на пути в Сибирь. Было всё. Но главное — это было добровольное переселение.
Не пресловутых «слабых» правительство выкачивало в Сибирь, наоборот — туда ехали люди сильные духом, предприимчивые, нацеленные на создание своего сельскохозяйственного дела с новым размахом, на качественно более высокой технической и агрономической базе. Это было лучшее приобретение Сибири.
В местах переселения наряду с обычными наделами стали выделять и крупные, специально предназначенные для животноводства. У железнодорожных станций строили торгово-промышленные поселки и поселки городского типа. Наконец, в общий передел земли, предназначенной для переселенцев, стали вовлекаться и казенные, государственные земли. Обширные (!) по сравнению со среднеевропейскими крестьянские хозяйства стали применять намного более современную технику, вплоть до тракторов.
Внутренний рынок страны расширялся быстрыми темпами, новые районы богатели, из них шел дополнительный спрос на промышленные товары центра. Труд переселенцев на новых местах был намного производительнее, общественное богатство приумножалось, достаток рос быстрее. Многие историки называют тот процесс колонизацией Сибири. Неправда! В ходе переселенческой реформы Сибирь не была ограблена — наоборот, она прирастала новым экономическим потенциалом. Это была интеграция европейской и азиатской частей России.
И в этом вопросе реформы Столыпина и Витте сомкнулись тоже: без Транссибирской магистрали, без железных дорог в Приуралье переселение было бы невозможным. С первых лет хозяйствования вновь возникающие производства ориентировались на экспорт — в другие части страны и за границу. В 1913 году за счет Сибири Россия стала лидером по экспорту сливочного масла.
Огромный импульс получила металлургическая и горная промышленность Урала, туда стал пробиваться промышленный капитал, производивший как сельхозоборудование, так и ширпотреб. Наконец, именно в Сибири сбылась мечта Витте — туда буквально хлынул иностранный капитал. Модернизация охватила и Среднюю Азию. С созданием железнодорожной магистрали Ташкент—Оренбург увеличилась доля потребления отечественного хлопка в хлопчатобумажной промышленности, в Средней Азии осваивались новые земли, велись работы по мелиорации…
Витте и Столыпин мыслили континентами и эпохами, по выражению того же историка М. А. Давыдова.
Свобода личности и ее ответственность за свободу общества
Столыпину принадлежат слова: «Свободный труд, помимо своей большей производительности, имеет то огромное преимущество перед всеми видами принудительного труда, что он обнаруживает стремление к беспредельному усовершенствованию. Только ничем не связанный личный интерес и расчет на выгоды от труда побуждают человека затрачивать многие годы жизни на приобретение знаний и, отрешившись от рутины, предпринимать опыты, ведущие к открытию новых, более совершенных способов производства»[32].
Вроде бы это только про экономику, но на самом деле это манифест свободы, под которым мог бы подписаться любой истинный современный либерал. В XX веке к этим же убеждениям пришли и Милтон Фридман, и Маргарет Тэтчер, и Айн Рэнд. Столыпин, оставаясь убежденным монархистом, был в то же время убежденным западником и создавал в стране именно гражданское и правовое общество.
А как же столыпинские галстуки? Ведь именно по представлению Столыпина император Николай II создавал военно-полевые суды, отправлявшие людей на виселицу без долгих разбирательств. Да, ни демократом, ни тем более либералом Столыпина не назовешь. Необходимость экономических свобод и равенство подданных императора перед законом — по сути, превращение их из подданных в граждан — вполне уживались, по его мнению, с ненужностью свобод политических. В его представлении парламент, конституция — побрякушки, поскольку есть монарх, который сумеет охранить закон, но сам закон должен быть незыблем.
А что до галстуков… Понятно, почему придворные историки Великого строя клеймили столыпинские военно-полевые суды как преступление Столыпина перед своим народом: это позволяло не акцентировать внимание на сталинских репрессиях. Намного менее понятно, почему современные историки и публицисты продолжают называть этого человека «палачом» и «вешателем» без поправки на исторический контекст. Столыпин считал, что любым способом нельзя допустить революции. Не потому, что она сметет дорогую его сердцу монархию, а потому, что попутно она сметет и все остальное, принеся лишь насилие и хаос. Больше века прошло, пора уже оценить реформатора Столыпина с позиций сегодняшнего дня. И с этих же позиций оценить и деромантизировать марксистских революционеров-романтиков.
Столыпинские военно-полевые суды, которые казнили без следствия, были не чем иным, как борьбой с насилием и террором. Российские революционеры представляли собой симбиоз радикалов и уголовников. Это были люди, не нашедшие себе места в менявшейся России, они восставали не против остатков средневековых несвобод, а против той непростой свободы, которую нес с собой капитал. Люди, не обремененные моралью, — те, кого долгое время было принято называть изнанкой революции. А это было ее лицо.
В отличие от террористов конца XIX века — в основном из привилегированных социальных групп или разночинцев — террористы начала XX века были преимущественно выходцами из мастеровых и чернорабочих, только-только перебравшихся из села в город. Из всех политических убийств, осуществленных партией эсеров, более 50% были совершены рабочими. Немалую часть террористов этого периода составляли женщины, которые после многовекового домашнего угнетения искали самореализации в этой дикой деятельности. В общем, достаточно напоминает поведение неинтеграбельных мигрантов в сегодняшней Европе.
Американский историк русского происхождения Анна Гейфман приводит статистику терроризма начала XX века. Всего за год с октября 1905 года в Российской империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года это число увеличилось почти до 4500 человек. Общее число жертв в 1905-1907 годах — более 9000 человек. Полагая, что значительная часть местных терактов не попала в официальную статистику, Гейфман оценивает общее число убитых и раненых в результате террористических актов в 1901-1911 годах в 17 тысяч человек. «Ленин, — пишет она, — отдавал приказы о подготовке терактов, призывал к нападениям на городовых и прочих государственных служащих. Осенью 1905 года он открыто призывал убивать полицейских и жандармов, черносотенцев и казаков, взрывать полицейские участки, обливать солдат кипятком, а полицейских — серной кислотой. Лидер большевиков превратился в ярого сторонника террора»[33].
Никакое правительство в мире не согласилось бы мириться с таким разгулом насилия. При этом — внимание! — столыпинские суды за призывы, за статьи и высказывания, даже за агитацию людей не казнили и даже не «винтили», выражаясь языком «Болотного дела». Казнили только террористов.
В 1970-е годы миссис Тэтчер отказывалась иметь дело с профсоюзами, разжигающими анархию и власть улицы. Ей было не о чем вести переговоры с людьми, которые убивают полицейских Ее Королевского Величества.
В сентябре 2001 года мир стал иным, появился международный терроризм. С террористами переговоры не ведут. Их уничтожают.
Сегодня всякому нормальному обывателю понятно, почему немецкие полицейские в Мюнхене в 2016 году без разборок и судов пристрелили 16-летнего пацана, который парой часов раньше положил двух немецких полицейских.
Слишком страшная это штука — террор под прикрытием фанатизма любого оттенка. Это Столыпин понимал лучше многих других уже больше века назад…
Как же они поссорились?
Снова, как и в случае с Карлом Марксом, стоит увидеть в великих реформаторах просто людей со своими слабостями, пристрастиями и ценностями, в которые они верят.
Сергей Юльевич Витте прожил первые 16 лет в Тифлисе — тогда совершенно европейском городе, красивом и изящном, с богатой культурной жизнью. В каждой семье детей учили языкам, в каждом доме главным предметом домашнего обихода считался рояль. Витте получил образование в Новороссийском университете в Одессе — городе открытом и весьма культурном. Несколько лет он провел в Польше. Всю жизнь постоянно ездил на отдых и лечение — сначала с первой, потом со второй женой — исключительно за границу. Он по праву считал себя истинным либералом и западником, был, как сказано, убежденным сторонником парламентских методов разрешения социальных разногласий, считая, что мнения всех слоев и сословий должны быть услышаны и обществом, и монархом, и горячо отстаивал создание Государственной думы.
А что до человеческих качеств, то Витте был вполне светским господином, любил «жуировать жизнью», обожал пышные рауты и все атрибуты жизни вельможи, приближенного ко двору и к высшему свету. Был он вдобавок говорун, любил толкать речи. Даже лишившись премьерства, Витте не оставил деятельность в Думе, был всегда в гуще событий, не пропускал ни одного либерального сборища в особняках приятелей, где непрерывно выступал даже под старость, когда его практически перестали слушать, и неустанно писал свои бесконечные «Воспоминания».
За обедом у великого князя Владимира Александровича 8 мая 1907 года обсуждалась свежая новость — раскрытие заговора с целью убийства императора, великого князя Николая Николаевича и премьера Петра Столыпина. С. Ю. Витте разошелся, взвинтил себя и потребовал вешать заговорщиков на столбах Невского проспекта: «Повесить их там, и пусть висят, пока не подгниют». Заявил, что он — решительный сторонник смертной казни для убийц, но только не посредством столыпинских военно-полевых судов, поскольку эти ужасные учреждения казнят не только исполнителей революционных преступлений, но иногда и совершенно невинных людей, тогда как главные виновники остаются в тени. «Уж коль ввели в мирное время такой чудовищный институт, как военно-полевые суды, — рассуждал Витте, — то надо было с непреклонной энергией продолжать политическую линию в том же направлении: запретить все газеты левее "Нового времени", выгнать с государственной службы всех лиц с левыми убеждениями, закрыть все учебные заведения; словом, хотя бы на несколько месяцев нагнать такого страху, чтобы никто и пикнуть не смел»[34]. Вот цена последовательности убежденного российского либерала.
Столыпин был совсем иным — немногословным, угрюмым. Бывший саратовский губернатор, знавший жизнь народа не понаслышке, по образованию — специалист в области сельского хозяйства, это был человек конкретный и не так чтобы гибкий. Ему претили пустобрехи-думцы с их категоричностью и многословием. Он видел их насквозь и отлично понимал, что пламенные речи скрывают их собственные сиюминутные интересы, стремление к свободе только для себя, но не для народа, кому они были даже неподотчетны.
Временами одним из таких пустобрехов Столыпину представлялся сам Витте. А тому Столыпин казался угрюмым мужиком, который понятия не имеет о важности ораторского искусства, плюет на общественное мнение и манкирует элементарными приличиями. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Столыпин сменил Витте на посту премьер-министра. С тех пор Витте неустанно гневно критиковал мужиковатого саратовского самодура, который проводит «непоследовательные, ведущие только к революции реформы».
К окончательному разрыву между двумя великими мужами привел совершенно пустяшный, трагикомичный инцидент, который описывает в своей книге дочь Петра Аркадьевича Мария. «Пришел к моему отцу граф Витте и, страшно взволнованный, начал рассказывать о том, что до него дошли слухи, глубоко его возмутившие, а именно что в Одессе улицу его имени хотят переименовать. Он стал просить моего отца сейчас же дать распоряжение одесскому городскому голове Пеликану о приостановлении подобного неприличного действия. Папа ответил, что это дело городского самоуправления и что его взглядам совершенно противно вмешиваться в подобные дела. К удивлению моего отца, Витте все настойчивее стал просто умолять исполнить его просьбу и, когда папа вторично повторил, что это против его принципа, Витте вдруг опустился на колени, повторяя еще и еще свою просьбу. Когда и тут мой отец не изменил своего ответа, Витте поднялся, быстро, не прощаясь, пошел к двери и, не доходя до последней, повернулся и, злобно взглянув на моего отца, сказал, что этого он ему никогда не простит»[35].
Практически весь второй том «Воспоминаний» Витте — сплошная критика Столыпина. Лишь в двух местах он отмечает у Петра Аркадьевича отсутствие трусости и «темперамент государственного человека». На этом достоинства Столыпина для Витте заканчиваются. Остальные более 600 упоминаний о нем содержат самые нелестные характеристики: «Столыпин — человек ограниченный», «мало книжно образованный», «Столыпин всюду, чтобы иметь силу, сажает своих родичей», «Столыпин водворил в России положительный террор».
Свое убийство Столыпин предвидел. Он был уверен, что раз император не принял его отставку, хотя они уже окончательно разошлись во взглядах, то его уберут руками царской охранки. После его смерти у Витте не нашлось других слов, кроме того, что «премьер-министра "укокошили"».
Витте и Столыпин были единомышленниками, хоть и рассорившимися. Их реформаторские усилия были направлены к одной и той же цели: они создали из отсталой страны передовую, с поразительной скоростью модернизировали ее, поддержали укрепляющийся капитал и массовый рынок рабочей силы. Каждый из них сделал что смог для того, чтобы народ — крестьяне, ремесленники, промышленники — нашел свою дорогу к деньгам и сам мог создавать капиталы. Но слишком сильным было сопротивление «просвещенного класса» их реформам. Слишком коротким оказалось время того пути, по которому они направили Россию. Русские капиталисты не успели получить полный простор для преобразования общества, им приходилось приумножать общественное богатство, преодолевая немыслимые препятствия.
Русские промышленники: дело, процветающее и сегодня
Кто из нас не просыпался по ночам от мучительной мысли: «Где взять деньги?» В голове роятся планы, рождая бессонницу, тут же тысяча «но»… Нет стартового капитала, на работе продвижения не получить, а где другую взять? Теоретически вроде можно придумать, как заработать, а практически… Погорюешь, что нет денег, да и заснешь. А утром…
Идешь по тротуару, а мимо шуршат «мерседесы». В Москве по крайней мере их столько развелось! И откуда у честных людей может взяться столько денег? Ясное дело — жулики. Так рождается социальная неприязнь. А от нее до неприязни к богатству как таковому уже рукой подать. И грязным занятием кажется уже все, что с каждым годом увеличивает количество нулей на банковском счете. И уже ничего не нужно, потому как все равно ничего не выйдет. Уже скорей домой после постылой работы, включить телик, на диван завалиться…
Люди в гораздо более сложных условиях еще 150 лет назад умудрялись праведным трудом создавать состояния. Для себя, конечно, но попутно они умножали и богатство общества. Любили ли их тогда? Во всяком случае никто особо не ценил их достижения, даже самые что ни на есть «мыслящие». Хотя Витте не раз повторял: «Ни одно государство, даже самое могущественное, не в силах созидать капиталы». Капитал делают люди.
Строгановы, Демидовы, Морозовы, Рябушинские, Мальцовы, Солдатенковы, Крестовниковы, Красильщиковы, Хлудовы, Боткины, Алексеевы… Третьяков, Путилов, Мамонтов, Смирнов, Елисеев… А еще иностранцы, ставшие русскими, связав жизнь с развитием России и отдав ей все свои силы, — Кноп, Хьюз, Мозер, Гартлей. А также Нобель — да-да, брат того самого человека, который премию учредил.
К этим фамилиям можно добавить еще несколько десятков, самые яркие выбрать трудно. Важно другое: крупными промышленниками становились отнюдь не сливки российской знати. Та витала в эмпиреях прошлого, видела себя помещиками, которым на роду написано, что крестьяне всегда будут обеспечивать им привычный доход. В общественных отношениях и к концу периода реформ Витте — Столыпина царила несвобода. Но предприимчивых людей всегда немало, и уже в тогдашней России они выискивали любую возможность, чтобы сколотить собственное, пусть и маленькое, дело, влезть в торговлю, в посредничество, заняться чем угодно, а главное — самим устраивать свою жизнь и находить свой путь к деньгам.
Маркс подчеркивал, что его формула товарного обмена «товар — деньги — товар» — абстракция. Она помогает понять превращение денег в капитал, когда на деньги покупается особый товар — рабочая сила, дающая капиталу прибавочную стоимость. В реальной истории Запада капитал редко развивался таким путем — долго, жизни может не хватить. Капитал там возникал прежде всего в процессе, который Маркс назвал «первоначальное накопление». Самый известный пример — массовый сгон крестьян с земли в Англии XVII века. Их земли превращали в крупные пастбища для овец, и капитал рос как на дрожжах на производстве и торговле шерстью. Огромная же масса крестьян, у которых отняли землю, становилась пролетариатом.
А вот в России формула «товар — деньги — товар» была не такой уж абстракций. В стране не прошла буржуазная революция, никто не расчистил капиталу дорогу. И крестьян никто с земли не сгонял, наоборот, вязали по рукам и ногам сначала крепостничеством, потом общиной.
Казалось бы, откуда же взяться капиталу? А вот взялся, как ни странно! Наверняка были и помещики, которые не хотели жить, перезакладывая имения, беднея и беспомощно тоскуя, как чеховские сестры, — «в Москву, в Москву!..» — а впрягались в работу, принимаясь за совершенно новое для себя дело. Но что-то история о таких случаях умалчивает — буквально раз-два, да и обчелся. Зато крестьяне, которые не хотели прозябать, цепляясь за землю, мещане, стремившиеся к достатку, шли именно тем медленным путем, буквально по формуле «товар — деньги — товар», по крупицам складывая свое дело. Выгрызали зубами право на него, не загадывая, хватит им на это жизни или не хватит. Как же велика тяга человека к осмысленному труду, собственности и деньгам!
Из лоточников в фабриканты
Еще в дореформенную пору инициативные крестьяне, работая на своих хозяев, через подставных лиц вкладывали деньги в прибыльные дела. Сколотив капиталец, покупали вольную и затем приобретали лавки, мастерские, а некоторые — сразу мелкие фабрики. Начало крупным и знаменитым предпринимательским династиям — Алексеевых, Рябушинских, Крестовниковых, Солдатенковых, Морозовых, Демидовых, Прохоровых — положили именно выходцы из крестьян.
Лучше, чем Федор Шаляпин, этот путь не описать: «Российский мужичок, вырвавшись из деревни смолоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в самой Москве. Он торгует сбитнем на Хитровом рынке, продает пирожки на лотках, льет конопляное масло на гречишники, весело выкрикивает свой товаришко и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито и что к чему пришито. Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же Хитровом рынке или на Пресне, он ест требуху в дешевом трактире, вприкусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, холодает, но всегда весел, не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать… Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается экономистом. А там, гляди, у него уже и лавочка или заводик. А потом, поди, он уже 1-й гильдии купец. Подождите — его старший сынок первый покупает Гогенов, Пикассо, первый везет в Москву Матисса…»[36]
Легендарный фабрикант и промышленник Савва Тимофеевич Морозов родился в именитой купеческой семье. Но семья не сразу стала купеческой. Предок и тезка Саввы Тимофеевича — крепостной крестьянин Савва Васильевич — в начале XIX века сам делал шелковые кружева и ленты для собственных бар и соседей-дворян Владимирской губернии. Сам работал на единственном станке и сам пешком ходил в Москву! За 100 верст! Кто из сегодняшних ноющих молодых, протирающих штаны в бюджетных конторах, способен на подобное? В конторах вам точно не понять, откуда берутся деньги…
В Москве первый Морозов продавал свои изделия скупщикам, с годами сумел купить в придачу к шелкоткацкому станку еще суконный и хлопковый. Во время войны с Наполеоном он уже так раскрутился, что поставлял сукно для нужд армии. При этом оставался крепостным и платил оброк своему барину. И только годами позже за 17 тысяч рублей — совершенно немереные по тем временам деньги — он сумел получить вольную от дворян Рюминых и был зачислен в московские купцы первой гильдии.
Дожив до глубокой старости, Савва Васильевич так и не одолел грамоты, но это не мешало ему вести дела. Своим сыновьям он завещал четыре крупные фабрики, объединенные названием «Никольская мануфактура». Старик позаботился устроить потомков даже на том свете: рядом с его могилой на Рогожском кладбище стоит белокаменный старообрядческий крест с надписью, потускневшей от времени: «При сем кресте полагается род купца первой гильдии Саввы Васильевича Морозова». Сегодня там лежат четыре поколения Морозовых.
Было бы неудивительно, если бы бывшие крепостные и их потомки, которые уже выросли в достатке, развивали относительно более простые формы капитала — торговали бы, наживая свой купеческий капитал. Или производили бы то, что попроще, — варенье и сладости, как семья Абрикосовых, или текстиль, как Морозовы и Прохоровы. Но поразительно, что они никогда не останавливались на достигнутом. Еще более поразительно то, что развивали они свои империи не благодаря реформам, которые сегодня мы назвали бы прокапиталистическими, а вопреки все еще прочным барьерам на своем пути и непосильной, казалось бы, конкуренции с казенными заводами. Да еще расширяли свою деятельность на всё новые сферы. Тем самым они постоянно доказывали на практике, что частный капитал, приложенный с умом, эффективнее государственного.
Прохоровы на базе «Трехгорной мануфактуры» создали сначала химическую лабораторию, а потом начали выпускать и искусственную пряжу. Красильщиковы, также начавшие с выпуска тканей, сначала постепенно перевели прядение на английские импортные станки, затем начали производить отечественные ткацкие станки, а один из последних отпрысков их династии, Петр Красильщиков, уже в советское время стал авиаконструктором, проектировал самолеты и сделал фантастическое количество открытий в области аэродинамики.
Зачем русским купцам, бывшим крепостным, пусть даже выбившимся на самый верх, нужно было это постоянное развитие? Понятно, что уже далеко не только ради денег. Ради страны?
Прежде всего потому, что, когда человек видит, сколько он может сделать своими руками, приложив мозги и труд, сумев организовать других, он уже не в силах остановиться. Развитие собственного производства требует, чтобы под боком были и хранилища, и железные дороги, и пароходы для перевозки грузов. Потому-то русские промышленники и осваивали все новые и новые сферы производства, принимаясь за их модернизацию.
Николай Иванович Путилов начинал с простых работ по металлу в питерских мастерских. Развернулся, создал собственное предприятие, стал уже получать заказы от государства на производство военной техники, паровых котлов, паровых двигателей, оборудования для канонерных кораблей и клиперов. Добавив к своим мастерским четыре завода в Финляндии на паях с горнозаводчиками северной части России, он полностью переоборудовал их, образовав Путиловское общество подводных лодок и военных кораблей. В 1868 году Путилов купил обанкротившийся механический, литейный и железоделательный завод, который в 1872 году стал основой учрежденного им Общества путиловских заводов. На этом заводе он организовал оружейное производство и выплавку стали, в том числе на экспорт.
Прокатка рельсов на новом заводе обходилась дешевле заграничной, впервые в России в дело был пущен — в полном смысле этого слова — металлолом, сношенные рельсы. Производительность завода достигла 3,2 млн тонн в год — это были рельсы и пудлинговое железо. В 1869 году был принят заказ казны на переделку 10 тысяч ружей старого образца. В том же году Путилов принялся осуществлять мечту своей молодости — сооружение в Петербурге, на взморье у Екатерингофа, коммерческого порта, где должны были соединяться три торговых пути — морской, речной и железнодорожный. Грандиозный проект! Начали рыть так называемый Морской канал от Кронштадта до Петербурга, то есть углубили фарватер для прохода глубоководных судов. Принялись за новую ветку — Путиловскую железную дорогу — для соединения будущего порта со всеми русскими железнодорожными линиями. Сейчас это портовая ветвь Николаевской железной дороги. Путилов объединил все свои проекты в акционерное общество, и только оно начало выпускать акции для новых инвесторов и финансирования, как все остановилось со смертью Николая Ивановича в 1880 году. И тем не менее Путиловский, ныне Кировский, завод до сих пор остается крупнейшим промышленным производством Питера. Среди его корпусов так заметно выделяются здания из старого красного кирпича, заложенные основателем — Николаем Ивановичем Путиловым.
И это сделал один человек в течение одной жизни!
Мальцовы начали со стекла, листового и бытового, с производства всех видов посуды, хрусталя. Вообще-то деньги их дед Аким заработал на банальной торговле, и было тех денег негусто, но на стекло хватило, потому что это производство с относительно низкой капиталоемкостью. Мальцов выбрал город Гусь-Хрустальный, поскольку государь запрещал создавать стекольные производства ближе чем 100 верст от столицы.
Когда же Сергей Иванович Мальцов, самый известный представитель династии, получил материнское наследство, он не стал вкладывать его в стекольный бизнес. Деньги были уже солидные, ему хотелось масштаба. Принялся строить металлургические и вагонные заводы. Цементное предприятие, которое он создал, — «Портланд-цемент» — сегодня входит в российский холдинг «Евроцемент» и является одним из крупнейших цементных предприятий России и Европы.
Прохоровы от ткацкого производства перешли к созданию банков, а на рубеже веков уже стали серьезными горнопроходчиками, владельцами каменноугольных шахт и копей в Донецком бассейне.
Князь Амелек-Лазаров сразу начал круто — все же князь, имелся какой-никакой стартовый капитал. Он замахнулся на горнорудное дело. В то время это была не очень капиталоемкая отрасль, на добыче в основном использовался живой труд — переменный капитал, как называл его Маркс. Но уже через десять лет добывать руду и продавать ее по цене сырья стало князю неинтересно. Он создает один за другим шесть сталелитейных заводов, потом берется за добычу нефти. А вскоре после этого встречает некоего Кнопа…
Интереснейшим человеком был этот Кноп по имени Иоганн Людвиг. В 1839 году он приехал в Москву 19-летним пацаном как представитель английской торговой компании. И быстро-быстро стал налаживать собственный бизнес — поставлять в Россию английские прядильные и ткацкие станки. К середине 1850-х годов этот ничем не примечательный уроженец Бремена уже открыл собственную торговую фирму, заделался купцом первой гильдии Львом Герасимовичем и принялся обменивать станки и паровые машины на солидные доли акций в русских предприятиях.
Кноп был так тесно связан с российским ткачеством, что о нем ходила поговорка: «Где церковь, там и поп, где фабрика, там и Кноп». Оснастив всех российских текстильщиков английскими станками, он создал свое собственное текстильное производство — Кренгольмскую мануфактуру, которую называли «островком Англии в России». Но и этого ему было мало, хотелось дальше расширяться. Он и подбил князя Амелек-Лазарова на строительство нефтепровода, который для них впервые в России спроектировал русский инженер Шухов.
Англичанин Джон Хьюз — непостижимый персонаж. Ни с того ни с сего рванул из своего благополучного Уэльса в российское захолустье. Посреди чистого поля основал поселок, который в его честь стали называть Юзовкой, потому что в России его самого называли не иначе как Юз. В итоге создал российскую горно-металлургическую промышленность! Тут и шахты, и добыча железной руды, и выплавка металла. Юзовка сначала превратилась в город Сталино, а в середине XX века — в Донецк.
Фрезе Петр Александрович — русский промышленник и изобретатель, — познакомившись на промышленной выставке в Чикаго со своим будущим компаньоном Яковлевым, буквально за два года запустил вместе с ним производство русских автомобилей в Риге. Еще через три года, уже на паях с обществом Романова, начал производство грузовиков, а в 1902-1903 годах стал выпускать троллейбусы и почтовые фургоны. Их дело разрослось в акционерное общество «Дукс», которое выпускало уже омнибусы на пневматических шинах. И все это при минимальной поддержке со стороны правительства. Чаще — при огромном его противодействии.
Правительство не ставило перед собой задачу превратить Россию в индустриальную страну. Рынок был узким, пролетариат немногочисленным, и, как уже было сказано в предыдущей главе, мало кто видел будущую Россию крупной индустриальной державой. И тем не менее она ею стала задолго до индустриализации Сталина. Русские промышленники доказали, что, оказывается, можно сделать страну промышленной державой без грабежа, репрессий и ГУЛАГов.
В стране множились и росли акционерные общества, охватывая все новые отрасли, в Россию охотно шел иностранный капитал. Историки сходятся в том, что его доля в общественном капитале страны колебалась в диапазоне 35-45%. Для страны такого масштаба, как Россия, это не порождало никакой зависимости, главное, что иностранцы увеличили общий объем крутившегося на рынке капитала, способствовали более быстрому его накоплению. Такие, как Кноп или Хьюз, которые самостоятельно развивали крупные предприятия, были редкостью, чаще иностранцы становились партнерами русских промышленников, причем младшими. Те играли первую скрипку, и ни о какой кабале вопрос не стоял.
В России, как, пожалуй, ни в одной западной стране, именно предприниматели больше других прикладывали усилия для изменения общественного устройства. И потому, что никто, включая государство, не собирался этого делать за них, и потому, что им нужны были здоровые, просвещенные, а не хиреющие рабочие. Рабочие были не нужны думцам, дворянам, помещикам, интеллигенции, только капиталу было без них не обойтись, и русский капиталист всегда о них заботился. Больше некому было.
«Чумазый играть не может!»
Легендарный эпизод фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»: помещик-дворянин, которого играет Олег Табаков, ужасается, видя дворового, исполняющего на пианино Шопена. Какое же облегчение приходит, когда он понял, что пианино-то механическое. «Я же говорил! — кричит. — Чумазый играть не может!»
В массе своей так и было. Неграмотное, забитое крестьянство два века выживало в недоедании и принудительном труде. От сознания, что выше головы не прыгнешь, — привычка довольствоваться малым, и тут же готовность к насилию, просто так, по пьяни, от невозможности приложить ум и руки к чему-либо созидательному. Достойная бедность возможна лишь до определенного порога. Открытая нищета не имеет морали, у нее всегда омерзительно античеловечное лицо.
Это не могло пройти бесследно, с отголосками холопско-рваческого отношения к труду мы сталкиваемся сегодня сплошь и рядом. Казалось бы, люди решили заработать. Подрядились отремонтировать забор и, получив аванс, тут же ушли в запой навсегда, а ты все смотришь на свой разваленный забор. Гастарбайтеры из Белоруссии, с Украины, то есть потомки тех же крепостных крестьян, аж в Москву отправились. Исключительно ради денег. Взялись вам дачу строить, а через неделю вспомнили, что у племянницы в Минске свадьба, оказывается! И заявляют вам, что отбывают на гулянку. Не на пару дней — на неделю! Забыли, что ли, зачем приехали?
Один мой приятель обожает прибаутку: «Русский человек — это такой человек, которому все время что-то нужно… Но не так, чтобы это непременно было, а так, что если нет, то и пошло оно нах…» Ломаться ради денег? Они нужны, но не «так, чтобы непременно было». Если приспичит, откуда-то и сами возьмутся. Немного, но на застолье хватит, а дальше видно будет. Нет у нас школы созидания богатства собственным трудом и по собственной воле, есть только наследие веков подневольного труда. Так судьба сложилась. Миллионы людей были доведены при крепостном праве до положения «белых рабов», и в общине они оставались бесправными париями. Об этой трясине традиционного сектора империя вспоминала, лишь когда требовались подати. Это и была «внутренняя колонизация».
Но даже в болотах всегда есть твердые кочки. Именно русские промышленники, выбившиеся из низов, создавали островки новых отношений. Они стремились изменить «чумазого», потому что им нужен был труд такого же уровня, качества и культуры, как в Англии, — совершенно рациональный мотив. Среди «чумазых» они отбирали талантливых и хватких — как Столыпин, который делал «ставку не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных». При этом всегда помнили и о тех, кто обделен талантом, умом, здоровьем, а то и разумом, понимая, что ради здоровья всего общества и о них кто-то должен заботиться. Промышленники и заботились — сами, безо всяких социальных программ, на собственные деньги, не перекладывая эту задачу ни на кого, потому что имперскому государству и его «мыслящим умникам» на убогих было наплевать.
Промышленники строили жилье для рабочих, больницы при фабриках, родильные дома, аптеки, детские приюты, училища, даже ясли и библиотеки. Они заботились о стариках, бывших «угнетаемых пролетариях», то есть о пенсионерах.
Пожалуй, самым удивительным примером были фабриканты Мальцовы. Во всех отраслях и на всех территориях, которые были ими освоены, они стремились преобразовать страну.
Одна ветвь династии Мальцовых — стекольщики, чье дело дожило и до сегодняшнего дня. В любом магазине спросите изделия из хрусталя — вам предложат стаканы, рюмки, вазочки завода из города Гусь-Хрустального. Основанное в середине XVIII века производство промышленного и бытового стекла, посуды и хрусталя сохранило свою конкурентоспособность.
Другая ветвь занялась машиностроительным делом. На заводе Сергея Ивановича Мальцова в Людинове был произведен первый русский винтовой двигатель для построенного в 1854-1857 годах в Николаеве корвета «Воин». На Людиновском заводе были построены и первые грузовые и пассажирские пароходы, ходившие по Днепру и Десне, и первая паровая машина для Петербургского и Киевского арсеналов.
К 1860-м годам в России стараниями Сергея Ивановича Мальцова на стыке Калужской, Брянской и Орловской губерний возник так называемый Мальцовский промышленный район площадью почти 10 тысяч квадратных километров — территория, по площади равная Кипру и в 12 раз больше Сингапура.
Здесь проживали около 100 тысяч человек, из которых 40 тысяч работали на построенных Мальцовым предприятиях. Двадцать пять (!) крупных заводов — чугунолитейных, железоделательных, механических, паровозо-вагонных, винокуренных, пивоваренных, лесопильных, кирпичных, фаянсовых и т.д. — и 130 обслуживающих их предприятий составляли единый промышленный комплекс.
Тут велась разработка каменного угля и торфа, чтобы уменьшить вырубку лесов. Мальцов лично спроектировал и построил в 1877 году узкоколейку в 300 километров, чтобы связать все свои заводы воедино. По его же чертежам и на его же заводах были изготовлены паровозы и вагоны. Дорога постоянно прирастала новыми ветками, к началу XX века по ней перевозили свыше трех миллионов тонн груза и до полумиллиона пассажиров. Все районы были объединены единой телеграфной сетью, на ведущих предприятиях появились и телефоны, чего тогда не знала даже Европа.
Это была мини-страна с поразительно высокими стандартами жизни. В 1860-е годы простой доменный рабочий на заводах Мальцова зарабатывал 18-25 рублей в месяц, тогда как на государственных военных заводах старший мастер получал не больше 15-20 рублей. «Таких зарплат, как на заводах Мальцова, — отмечал в 1862 году в донесении министру внутренних дел один из инженеров, — я не встречал ни на одном заводе и нахожу, что они даже выше получаемых на германских заводах»[37].
Калужский губернатор отмечал, что «род Мальцовых до настоящего времени поддерживает совершенно особые отношения между хозяевами и рабочими, свойственные не спекулятивно-промышленным предприятиям… Отношения эти чисто патриархальные…»[38]
Рабочий день составлял не обычные 14-16 часов, а 10-12, а на некоторых наиболее тяжелых производствах был восьмичасовым. Существовала развитая система социальных гарантий. В районе ходила внутренняя валюта, так называемые «мальцовки» — специальные талоны номиналом от 3 копеек до 5 рублей, которыми частично выплачивали зарплату и на которые по ценам, близким к себестоимости, можно было отовариться в магазинах фабриканта.
Для рабочих Сергей Мальцов строил одно- и двухэтажные дома с огородами. На его средства содержались бесплатные школы и 8 больниц, были открыты две аптеки, в 1876 году было построено техническое училище, где обучали черчению, механике и химии. Здесь впервые в России была достигнута поголовная грамотность рабочих, искоренено пьянство, заболеваемость резко снизилась. Сиротам, вдовам и немощным в мальцовском промышленном районе выплачивались пенсии и пособия.
Один из современников Мальцова, писатель Василий Немирович-Данченко (старший брат известного драматурга), писал о его промышленном районе: «Что такое другие наши заводские районы? Рассадники нищеты и центры пьянства и разврата прежде всего. Приезжайте сюда, вы не встретите ни одного нищего, а пьяные разве в Людинове попадутся вам, да и то редко. Это не вырождающееся поколение, это — люди сильные и сытые»[39].
Людиновский промышленный район — не единственное, что сделали Мальцовы. Они превратили вонючий татарский аул Симеиз в роскошный курорт: с нуля отстроили весь город, его шикарные гостиницы, променады вдоль моря.
А ведь Мальцовы не были исключением в России. С таким же размахом, с такой же заботой о людях строили свое дело Шустовы и Рябушинские, Румянцевы, Хлудовы, Сытин… Черт побери! Ведь если этим людям дали бы развернуться, если бы не революция, они бы за четверть века превратили Россию в страну круче Франции! А Крым — в Лазурный Берег!
В этой связи совершенно невозможно обойти еще одно историческое явление России — ее анклавы старообрядческой веры, которые тоже дожили до сегодняшних времен.
Протестантская этика на русский манер
Для начала одна история из сегодняшней жизни.
Зот Фомич Чернышев из Кировской области, Владимир Пименович Белозеров из Хабаровска — крупные лесопромышленники, с которыми в середине нулевых свела меня работа инвестбанкира. Сильно они отличались от невнятных «пильщиков», экспортеров сырой древесины и даже «элиты» отрасли — производителей целлюлозы, которые отгружали ее со смердящих серой комбинатов на кипрские офшоры по воровским ценам.
В промзонах Фомича и Пименовича не гнили под ногами отходы, не громоздился кучей проржавевший металлолом. Они ртуть в реки, как иные, не сливали. Совесть не позволяла. Не кидались они с голодными глазами ни на кредиторов, ни на инвесторов непонятных. Опасались пустить в свой огород государственный ВТБ, откуда к ним сновали гонцы, — сегодня он дивиденды по совести сулит, а завтра оброком обложит, буде на то воля государева.
Таких немало в Приморье. С размахом, богатством, с партнерами «на вере», немногословных и сплоченных. Может, потому и не решился сунуться в приватизацию Хабаровского порта просвещенный рейдер Олег Дерипаска со схожей хваткой и рацио.
Они староверы. «Невидимая Россия», страна, непохожая на ту, к которой мы привыкли, — неухоженную, крепко пьющую и пресмыкающуюся перед начальством. Так говорит Николай Усков о старообрядчестве в книге, написанной со знанием дела и с любовью к островкам протестантской этики в стране холопской психологии[40].
Не мрачной фанатичкой, а хозяйкой и матерью, занятой сыном и домашними делами, была боярыня Морозова, прародительница одной из ветвей династии Морозовых, которые тоже были староверами. Она была аристократкой с роскошной усадьбой, обустроенной по западному образцу.
Раскол можно назвать противостоянием между государственным и человеческим началом в ортодоксальной ветви христианской религии. Новая, никонианская ветвь стремилась к единообрядию и благочестию без осмысления того, во что веруешь.
Старообрядцев жгли, пытали, морили голодом, отбирали нажитое в стремлении подчинить государству человека, его разум, уклад и веру. Старообрядцы выстояли, сохранили себя в схватке, которая закончилась не гибелью, а… отстранением этих людей от единообразного послушания, от веры, заменяющей разум. Не было у староверов той гибкой совести, что присуща холопам. Они просто были другими. Делали ставку на самих себя, на разумное устройство жизни, на личную ответственность за собственную жизнь и жизнь многих и многих людей вокруг, если те были открыты такой же свободе мышления.
Староверы стали самыми успешными купцами, создали судоходство и промышленность, вели международную торговлю. И в XVIII, и в XIX веках их трудом и предприимчивостью расцветали те земли, куда бросали их история и власть. В Поволжье, в Сибири, на Алтае, в Приморье… В конце XIX века министр финансов Вышеградский отмечал, что старообрядцы «в российском торгово-фабричном деле — великая сила; они основали и довели нашу заводскую промышленность до полнейшего совершенства и цветущего состояния»[41].
К 1870 году доля старообрядцев составляла свыше 34% в бумаготкацкой промышленности Московской губернии и 75% — в Москве, а в шерстоткацкой — 63% в Москве, свыше 42% — в Московской губернии и 40% — по России в целом. В Калужской губернии старообрядцам принадлежало 90% фабричного бумаготкацкого, а во Владимирской — 37% прядильного производства. Вся торговля и промышленность Нижегородской и Ярославской губерний контролировалась староверами. В Западной Сибири большинство купцов второй половины XIX века вышли из старообрядческой среды, в Алтайском крае — 15%[42].
В общинах крестьян-староверов была самая высокая грамотность, из них в города уходили учиться у немцев будущие потомственные рабочие. Причем отличия наблюдались даже среди крепостных крестьян. Так, крепостные староверы Гомельской вотчины графа Румянцева в 30-е годы XIX века выделялись своей предприимчивостью: много из них вышло фабрикантов, мастеровых и торговцев. Помещики-староверы охотно переводили крестьян на оброк — фиксированный процент от самостоятельной хозяйственной деятельности, тогда как никониане в основном отбывали барщину, то есть обрабатывали барские земли. Зажиточность староверов и аккуратность их поселений настораживала обывателей: здесь что-то не так, «что-то нечисто». Не может же быть, чтобы русская деревня была чистой и непьяной, а дома в ней богатыми и красивыми.
Вот и Алеше Пешкову, будущему Максиму Горькому, дед втолковывал, что все крупные купцы Нижнего Новгорода — фальшивомонетчики, грабители и убийцы. Вполне возможно, что в неприязни Горького к капиталу было больше традиционной русской зависти и отношения к деньгам как к мировому злу, чем марксизма. Народное сознание допускало существование богатых бар: господам так положено. А успех простых людей мог быть только криминального свойства, потому что он недостижим. То же, веками скрепленное, социальное отторжение, что и сегодняшняя неприязнь к шуршащим по мостовым «мерседесам».
Преклонение перед начальством, безынициативность, рабская покорность, лень и пьянство — ничего этого и в помине не было у старообрядцев. Раскольники конституировали себя как особую общность. Не противопоставляя себя остальным, просто жили так, как считали нужным. Но именно таким образом жизни они отвергали социальную систему России, где «малые люди» якобы ничего не решают, а все в руках власти и родовой знати. Не в иерархии дело, а в сути человеческой, в том, насколько ты личность, насколько ты готов сохранять свою цельность и свои устои. Именно то, что сегодня мы назвали бы «меритократией»: избранными являются достойные люди. Калиброванные.
Протестантизм был результатом многовековой эволюции вероучения. Староверие сформировалось под давлением жестоких обстоятельств. В России всегда были и есть люди, для которых неприемлема господствующая этика подчинения личности государству или даже монарху. Староверие сохранилось как уникальный источник частной инициативы в стране, где все было придавлено государственной машиной.
Неудивительно, что староверы нашли свой путь в рамках капиталистической экономики раньше, чем кто бы то ни было в России. Капиталу не нужны лояльность и смирение, он ищет напористых, умных и трудолюбивых. Неудивителен и опыт жизни сегодняшних староверов.
Самоидентификация? Самоутверждение? Короче, собственное лицо
Как ни крути, человек — общественное существо. Ему нужно чувствовать себя частью себе подобных, знать, что у него есть единомышленники, и при этом ощущать свою значимость, выделяться из стаи, вызывая уважение других. Иначе говоря, людям нужна самоидентификация. Понимание своего места в обществе.
Русское сословие пионеров-капиталистов утверждалось как общность в непростых обстоятельствах. Происхождение многих из них не давало покоя высшим слоям общества. Хоть и говорят, что деньги не пахнут, но пренебрежительное отношение к купечеству и торгашам, высокомерное неприятие приумножения богатства как жизненной задачи — это очень свойственно людям, которым такое не по силам и не по уму. Одни пьесы Островского чего стоят: все его герои-купцы производят отталкивающее впечатление. Кабаниха в «Грозе» — дремучая жестокость, лощеный Кнуров в «Бесприданнице» немногим лучше. «Всюду деньги, деньги, деньги… Всюду деньги, господа…» Такими видели русских купцов и предпринимателей «образованные и мыслящие». А русским промышленникам так нужно было признание их успехов, уважение. В «сливки общества», в придворные круги им вход был заказан, разве что единицы крутились там на десятых ролях. Политическая деятельность — все эти комиссии, партии, да и Дума — им были совершенно неинтересны, отвлекали от созидания богатства, не только материального, но и духовного. Люди больших денег нашли свой ответ на вызов общества — благотворительность и покровительство искусствам. Меценатство.
Каждое сообщество иностранцев, адаптируясь в России, непременно создавало свое национальное сообщество — британское, немецкое, французское. Но они не только проводили конференции, как сегодня, о том, как иностранцу лучше вжиться в русскую экономическую среду, или занимались мелким лоббированием. На первом месте у них стояла благотворительность — дань уважения и помощь той стране, которая дала им развернуться.
Иностранные общины содержали детские приюты, богадельни (дома престарелых по-нашему), создавали больницы, школы, технические училища и девичьи пансионы. Деловые операции иностранцев и их потомков — в Петербурге особенно, но также и в Москве — непременно дополнялись просветительской работой. И их за это начинали ценить.
В начале ХХ века одним из крупнейших иностранных обществ было германское — с капиталом в 230 тысяч рублей и 700 членами. Общество содержало приют для детей на Тверской (не в Москве, а в Санкт-Петербурге), где на полном содержании жили и получали образование более сотни детей. Неподалеку — богадельня на 20 старушек. В доме часовых дел мастера Фихтера на Васильевском острове — приют для мальчиков. Немецкое общество промышленников, и в частности один из его лидеров И. Шмидт, организовало в пяти гимназиях и трех реальных училищах обучение немецкому языку.
Британские подданные В. Гартлей и В. Стюарт основали в российской столице фабрику пряжекрутильного, бердочного и лакового производства — фирму «Вильям Гартлей». Она переходила к сыновьям, внукам основателей, но прославилось производство не новшествами в бумагопрядении, а тем, что его хозяева делали колоссальные пожертвования на финансирование школ. Кроме этого, они еще основали гребное общество «Стрела» в Петербурге, Петербургскую футбольную лигу, а затем и Всероссийский футбольный союз. Гартлей первым ввел на своих фабриках обязательное страхование рабочих от несчастных случаев, которое оплачивалось самими рабочими всего на 5% — остальное доплачивал хозяин.
Иностранные инвесторы чувствовали себя в России не временщиками, появившимися чтобы «нахапать и убежать». Конечно, они шли в Россию прежде всего ради денег. И более того, наверняка на благотворительность шла небольшая доля той прибыли, которую они получали. Так что же, лучше не иметь инвестиций, не ускорять промышленное накопление и, наконец, не иметь какой-то части школ и больниц, приютов и богаделен — только ради того, чтобы не дать каким-то иностранцам на этой деятельности заработать?
Вопрос был бы глупым, если бы только слишком многие — и в тогдашней России, и в сегодняшней — не отвечали на него именно так: «Да, нечего иностранцам на нас наживаться».
Ведущая российская экономическая газета «Биржевые ведомости» в конце 1900 года писала: «Экономическая политика нынешнего правительства ведет к нашествию иностранных капиталов, которые скупят Россию на корню». На такого рода критику министр финансов Сергей Витте всегда отвечал: «Подобные опасения высказывались у нас еще со времен Петра Великого, но государи русские с ними редко считались, и история вполне оправдала их прозорливость… Привлечением иностранного капитала создали свое промышленное могущество все передовые ныне страны — Англия, Германия, Соединенные Штаты Америки…»[43] На самом деле происхождение капитала не играет особой роли. Главное — где он вкладывается, что привносит в общество, какие ростки культуры и новых веяний он создает в той стране, где действует.
Вклад же русских предпринимателей в российскую культуру просто потрясает — ни больше ни меньше. Русское меценатство достигло в начале XX века масштабов, каких не знала ни одна страна. Практически не было значимых культурных проектов, в которые так или иначе не вкладывали огромные деньги русские промышленные и купеческие семьи. Они хотели не только просвещать «низы», но считали необходимым, чтобы развивался и сам культурный слой России, который застрял на чтении сентиментальных французских и немецких романов. В этом было и стремление служить своей стране, и страсть к самореализации, и желание получить высокую оценку общества, которую в то время просто деньгами и адским трудом было не заслужить.
Благодаря капиталу Саввы Морозова возник Московский художественный театр. Он ассоциируется у нас с именами создателей новой художественной школы — К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Возник он благодаря стартовым вложениям самого Станиславского, которого поддерживал Савва Морозов — правительство не видело необходимости в каком-то новом театре. Но культура, особенно передовая, редко себя окупает, продажей билетов покрыть расходы на содержание актеров, осветителей, на декорации невозможно. С 1900 года, когда стало понятно, что лишь стартовых вложений недостаточно, Морозов стал полностью финансировать театр.
По словам Станиславского, «он взял на себя всю хозяйственную часть, вникал во все подробности и отдавал театру все свое свободное время». Он ходил на большинство репетиций, постигал новаторство постановок и предрек, «что этот театр сыграет решающую роль в развитии театрального искусства». В развитие театра он вложил почти полмиллиона рублей. Сыграли в этом роль и сугубо личные мотивы: Савва Морозов был безумно влюблен в гражданскую жену Максима Горького, звезду МХТ — актрису Марию Андрееву.
Заниматься театром, да еще когда влюблен в актрису, — это прекрасно! Позволяет забыть, что в мире есть нищета, смерть, болезни. Только Морозов и об этом не забывал.
Он строит больницы для рабочих, вкладывает деньги в решение самых табуированных проблем. Женские болезни тогда стыдливо предпочитали не замечать, а он основал первую в России гинекологическую клинику. Рак в те годы был прямой дорогой к мучительной смерти и вызывал отвращение даже у близких больного — Морозов создает на свои деньги первую в России онкологическую клинику, которая дожила до наших дней, это МНИОИ им. П. А. Герцена. Лечение безумия сводилось к изоляции от общества, цепям и смирительным рубашкам — Морозов открыл в Москве психиатрическую больницу — Канатчиковую дачу — с роскошным парком и самыми передовыми по тем временам методиками.
Деятельные личности, без которых не представить себе капитализм в России. Мировая культура обязана им русским модерном, новаторскими полотнами Серова, Врубеля, Гончаровой, Грабаря, Левитана, Кончаловского и Кандинского. Благодаря русским промышленникам-меценатам художественная жизнь России шла в ногу с европейской, обогащала ее, рождая новые направления искусства. Без их меценатства не было бы ни группы «Бубновый валет», ни «Мира искусства», ни Серебряного века как такового.
Иван Морозов и Сергей Щукин в конце XIX — начале XX века собрали обширнейшие коллекции французских импрессионистов, Иван Сытин был крупнейшим книгоиздателем России. Все и всегда будут помнить Павла Третьякова, основателя главной художественной галереи страны. Но есть и фигуры, незаслуженно полузабытые.
Среди них — последний «стеклянный король», русский меценат Юрий Нечаев-Мальцов. Он стал последним владельцем хрустального завода в поселке Гусь-Хрустальном Владимирской губернии. Накануне революции капитал только этого предприятия составлял 1 млн рублей. Юрий Нечаев-Мальцов получил его в наследство от дяди, И. С. Мальцова. И первое, что сделал племянник, — построил во Владимире техническое училище. Сейчас это главное высшее учебное заведение города — Владимирский авиамеханический колледж.
В последние годы XIX века Юрий Нечаев-Мальцов построил в городе Гусь-Хрустальном огромный Георгиевский собор, который расписывал художник Васнецов. Фамильный собор, конечно, в революцию разрушили, не уцелел единственный в мире хрустальный алтарь! Это к вопросу о том, что делают с культурой марксисты. Но недавно восстановили что смогли, и теперь в городе существует музей российского хрусталя.
Юрию Нечаеву-Мальцову обязан своим существованием один из крупнейших мировых музеев — сегодня он называется ГМИИ им. А. С. Пушкина. Четырнадцать лет жизни потратил он только на строительство здания. Желтоватый с терракотово-пунцовыми прожилками и темно-розовый мрамор, которым облицованы лестницы, огромный зеленый карниз вдоль главной лестницы на второй этаж. Кому не знаком этот интерьер? Кто не помнит итальянского дворика с его гранитными полами, не полированными, а лишь гладко притертыми плитами?
Музей открылся в 1912 году. На его фасаде табличка с именем основателя — Ивана Цветаева, отца Марины Цветаевой. А Нечаева-Мальцова забыли… Он финансировал музей анонимно — это же потрясающая деталь, так много говорящая о человеке. Конечно, семья Цветаевых отдавала должное Юрию Степановичу, в 1933 году Марина Цветаева вспоминала: «Нечаев-Мальцов стал главным, широко говоря — единственным жертвователем музея, таким же его физическим создателем, как отец — духовным. На музей дал три миллиона, покойный государь триста тысяч. Эти цифры помню достоверно»[44].
Ее отец высказывался о деле своей жизни не менее определенно: «Весною 1895 года г. Витте мне грубо и надменно отказал во всякой поддержке этому Музею, сказавши, что народу нужны "хлеб да лапти", а не ваши музеи. После многочисленных переговоров Витте согласился лишь на 200 т. р.»[45]. Именно тогда Юрий Степанович Нечаев-Мальцов и предложил свою помощь Цветаеву и Клейну — архитектору, построившему здание музея.
Любите деньги чистою любовью…
Наверное, на этом можно было бы закончить рассказ о русских промышленниках. Но речь же у нас не столько о них самих, сколько о деньгах, об отношении к ним русских людей: «Трудом праведным не наживешь палат каменных…» А также и «мерседесов» не наживешь, которые шуршат шинами у тебя под носом и так раздражают, просто бесят… Сложные отношения с деньгами у русского человека. Он вроде бы их любит и уж точно никогда от них не откажется. Но относится к ним презрительно. Они для него зло.
Почитайте Голсуорси, Бальзака, современного британского писателя Джулиана Феллоуза, знакомого русскому читателю не по книгам, а больше по фильмам, таким как «Госфорд-парк», «Аббатство Даунтон». Прикасаясь к жизни Европы XIX-XX веков, видишь совершенно иррациональное стремление знати делить деньги на «чистые» и «нечистые», наделение благородными качествами лишь «старых денег». Будто грязь и кровь, непременно сопровождавшие обретение денег, успели то ли стереться, то ли «отмыться», и нынешние наследники состояний чисты, в отличие от их современников, заработавших деньги здесь и сейчас. Это обычное сословное высокомерие, не более того, даже в последней трети XX века с ним боролась Тэтчер.
В России же относятся к любым деньгам как к мировому злу. То ли потому, что обывателю они приносили одни несчастья — даже небольшие деньги окончательно отвращали от работы, пока не пропивались, а попутно — по пьяни-то — можно было и прибить кого, опять же горе, а виноваты деньги! То ли оттого, что «мыслящие и образованные» — за редким исключением — совсем не мастаки по части зарабатывания и для ощущения собственной исключительности им приятнее считать, что деньги — зло в принципе.
Даже Марина Цветаева, признавая, что Нечаев-Мальцов оказался единственным, по сути, спонсором Музея изобразительных искусств, тем не менее говорит о нем как о «физическом» создателе музея, тогда как своего отца называет создателем «духовным». Не мог Нечаев-Мальцов вложить из собственного состояния три (!) миллиона рублей — немыслимые по тем временам деньги — без глубокой духовной причастности, без потребности в просветительстве собственного народа. Музей же строил, не амбар.
Снисходительно отзывается о его глубоком душевном порыве Цветаева. Она не может не признать, что без него все благородные устремления ее отца остались бы воздушными замками. И при этом пишет: «Не знаю почему [он это сделал], по непосредственной ли любви к искусству или просто "для души" и даже для ее спасения. Ведь сознание неправды денег в русской душе невытравимо…»[46] Как это по-русски — одной рукой брать деньги, а другой тут же свысока похлопывать дающего по плечу…
В русских промышленниках поражает их страсть к совершенствованию мира. Умение не только заработать, но и уважать деньги, которые они ох как умели считать, и при этом были готовы отдавать миллионы на обустройство жизни собственных рабочих, как это делал Сергей Иванович Мальцов, на дорогостоящую благотворительность и развитие искусств, как Морозов, Нечаев-Мальцов и многие другие. Они знали, что деньги должны творить добро. Если Марина Цветаева считала иначе — что ж, это ее дело.
Нет в деньгах зла, они заслуживают любви. Чистой, не рваческой. Зло им приписывают только сами люди — из зависти к чужому успеху и собственной инфантильной несостоятельности. Никому не заказан путь к достатку и даже богатству, было бы желание и упорство. Кстати, гораздо меньшее, чем требовалось крепостным крестьянам, выбившимся в люди. Нечего ныть, что в стране не существует социальных лифтов. Их действительно гораздо меньше, чем можно было бы создать в такой стране, как Россия, но те, кому они действительно нужны, их находят. Или создают сами. Не случайна тут история о староверах, Фомичах и Пименовичах. Убеждена, что в их душе нет сознания неправоты денег. И в душах многих россиян его нет, но мы этих людей не замечаем или презираем — так спокойнее. Мы видим только других и уверяем себя, что это и есть русский человек.
Для «других» труд — наказание, зима — наказание, секс для их женщин — наказание. Даже водка и то — наказание. Сама жизнь — наказание, которое несешь как крест.
У «других» нет денег — это же зло! — зато у них есть другое: страна с ее великим прошлым и великим будущим. У них есть герои, великие деды и космонавты — такие же парни, как они сами. Будем ими гордиться и думать о вечном. При этом мочиться в подъезде, ковырять в лифтах на стенах матерные слова, помнить, что застолье немыслимо без драки…
Это где-то там, в Европе, которую мы вроде хотим перегнать, шерифа избрать важнее, чем президента. Улицу замостить, новые лавки цветами украсить важнее, чем Олимпиаду провести. Так потому что страны малые, мышление там у народа куцее!
А «русский человек готов презреть вещи, которые мешают ему лично жить, ради какого-то большого дела, большого процесса, какой-то радости большой, общегосударственной. Вот это ощущение приобщенности к своей огромной истории, в том числе и к своей огромной географии, вот это внутреннее ощущение, что "я русский, какой восторг!.."». Я не смеюсь, просто цитирую уже не Цветаеву, а весьма титулованного писателя-современника Захара Прилепина, национал-большевика, который считает, что «восторг оправдывает любое неучастие и убивает ответственность»[47]. И это так его умиляет: «В России вышел, тут — Архангельск, там — Астрахань! Так много всего, что твой дворик стал совершенно незаметен. За что отвечать? Только ощущать себя ребенком огромного государства»[48].
Мы все хотим жизнь прожить такими детьми, мечтающими стать космонавтами или пожарниками? Мечтать о деньгах, но тут же вспоминать, что три дня гулянки на свадьбе у племянницы дело куда более важное? Наверное, многим из нас нужно совсем иное.
Мы не Морозовы и не Мальцовы, но нам, как и им, нужен труд в радость, который приносит деньги. Нужно заработанное детям оставить, чтобы они нашему труду и нашим жизням цену помнили. Детей надо вырастить так, чтобы те знали, что незаслуженное не идет впрок, и не сходили «с ума от того, что им нечего больше хотеть». И чтоб земля — не в ржавчине вокруг, по крайней мере там, куда наши руки дотянулись.
Желание гордиться своей страной — это прекрасно. Только величие страны — не в Сирии и не в Гренаде, где землю кому-то надо отдать, а в крепких заборах, чистых сортирах и цветниках под окнами. Может, отвлечемся от вечных споров об особом пути России? От этой навязчивой идеи заборы гниют и крыша протекает. Во всех смыслах.
Был ли Великий строй?
В начале XX века реформаторы расчищали капиталу дорогу, промышленники и купцы создавали его. Россия расцветала. Собственно, и Маркс признавал в «Манифесте коммунистической партии» — хоть это и прокламация, — что «буржуазия менее чем за 100 лет… создала более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное производство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек для судоходства… — какое из прежних столетий могло подозревать, что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!»[49] Русская буржуазия строила заводы, нефтепроводы, театры, музеи — их и сегодня можно пощупать руками.
И вдруг война, которая всегда ужасна, а вслед за ней — другой кошмар, с которым мир еще не сталкивался. Казалось, он не может длиться долго; Маркс, правда, намекал, что диктатура пролетариата — штука кровавая, но что она длительно кровавая, никто и словом не обмолвился. С буржуазией быстро разделались, однако Ленин все слал телеграммы, требуя расстрелов. Террор возводился в закон, обыватели к этому привыкали — это же во имя лучшей жизни, для их же блага. Товарно-денежные отношения еще как-то трепыхались, все еще пытаясь вырулить на естественные Марксовы законы. Но их насиловали, душили, объявляли преступными, люди были вынуждены приспосабливаться к совершенно новой реальности, и постепенно она перестала казаться кошмаром. Потом «жить стало лучше», а то даже и веселей, и следующим поколениям оставалось только верить, что вот еще немножко потерпеть, подождать — и блага польются потоком. Без надежды на лучшее человеку не выжить. Из той многолетней надежды и сложился миф, который остался в памяти.
Уже почти 30 лет, как сгинул Великий строй, а только зайди на любой интернет-форум — тут же наткнешься на заклинания: «Кроме рыночных есть и другие эффективные и справедливые общества!» Или: «Я верю в развитой социализм». Где и когда были нерыночные эффективные общества? Хоть на одно пальцем покажите! Что такое «развитой социализм»? Это же блеф! Но повторяют же, причем почти независимо от возраста. Афоризм героя следующего очерка, Джона Кейнса: «Трудность заключается не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от старых».
Старые идеи живучи. Кажется, что забыть их — значит перечеркнуть жизнь родителей, дедов и прадедов, которыми мы гордимся. Нужна немалая умственная отвага, не говоря уже о знаниях, чтобы осмыслить, отработать мусор, засевший в памяти, не перечеркивая чохом нашей истории.
Призывая пролетариат сбросить цепи, Маркс и представить себе не мог, какой гигантский блеф создадут творцы Великого строя, которые размахивали его именем. Семьдесят лет они растили и пасли священных коров, на которых тот блеф держался.
Коров этих было целое стадо. Самыми сакральными были три. Легенда о том, что марксисты-ленинцы при помощи коллективизации превратили Россию в житницу мира. Заклинания по поводу того, что индустриальная мощь страны создана вдохновенным трудовым порывом народа, освободившегося от буржуазных оков. И уже откровенное вранье: в результате наступило равенство и всеобщее благо. До такой степени благостное, что даже в предсмертные годы строя людям еще твердили: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
Хорошо хоть до коммунизма дело не дошло, а то ведь представить страшно… Ведь разведение священных коров — заведомо убыточный вид животноводства…
Античеловечный абсурд житницы
Житницей мира сделала страну якобы сталинская коллективизация. Вообще-то чистая правда, только суть этого процесса состояла в том, что у людей силой отнимали все, что они создавали своим трудом.
Численность сельского населения в 1920-1930-х колебалась вокруг 70 млн человек из 160 млн всего населения — считай, половина. У этих миллионов деревенских не было паспортов! В СССР паспорт считался не основным документом гражданина, а инструментом учета «органами» переездов жителей с места на место. Деревенские же были намертво прикреплены к своей деревне, не имели права переехать куда-то по собственному усмотрению. Стало быть, и паспорт для них — вещь лишняя. Податься же куда-то из деревни без паспорта или разрешения сельсовета было равносильно приговору.
Беспаспортные деревенские жили в классическом крепостном праве. В сезон работали с рассвета до темени. Но денег за работу не получали, а получали отметку — «галочку» в ведомости за каждый трудовой день. Трудодни отоваривали чем Бог… извините, колхоз послал — дровами, соломой или сеном, иногда спичками или керосином для ламп — как придется. Полнации фактически посадили на «месячину» — помесячную плату за ненормированный труд, что при крепостном праве считалось высшим произволом. В Российской империи так работала лишь ничтожная часть крестьян — дворовые крепостные. В 1930 -х в СССР так работали все деревенские.
Зато на обложке одного из выпусков журнала «Советский колхозник» в начале 1930-х был изображен колхозник, летящий к светлому будущему на крыльях. Паспорта нет, на работу выгоняют принудительно, а у него выросли крылья… По части изощренного цинизма марксисты-ленинцы были мастера.
Страна вышла в лидеры по экспорту зерна — вот вам и житница мира. Минуточку, любая страна экспортирует то, что она производит в количестве большем, чем нужно ее народу. Если бы Россия сегодня экспортировала нефть, а при этом автомобили стояли бы без бензина, вряд ли кому-то это понравилось бы. Даже смешно предположить.
А в 1930-е годы было совсем не смешно: колхозы соревновались в перевыполнении планов хлебозаготовок, а хлеб отправляли на экспорт. «Голодный экспорт» рождал голодоморы: почти каждый год то в одном крае, то в другом — голод. Люди в деревнях ели лебеду и жмых, морковную и свекольную ботву. Умирали сотнями тысяч. Государство тем временем вывозило выращенное ими зерно. В 1931-1933 годах за границу вывозилось 50-58% всего урожая зерновых. Государству позарез нужны были деньги, нечем было финансировать запуск индустриализации. В 1925-1940-х экспорт топлива составлял лишь 11-13% объема экспорта страны, вывоз редких металлов и алмазов — и того меньше. А 36-40% экспорта приходилось на зерно[50].
Зерно экспортировали самого низкого качества — кормовое, для скота. Другому взяться было неоткуда, тракторов в деревне было раз-два и обчелся. Под страхом наказания за невыполнение плана бабы впрягались в плуги, месили ногами пашню, падали от изнеможения…
Где Маркс в той реальности, которую марксисты-ленинцы строили якобы по его чертежам? Нигде. Если бы рулевых того строя хоть сколько-нибудь заботила верность Марксу, можно было бы оснастить деревню техникой, развивать агрономию. Можно было сохранить объем вывоза зерна на уровне тех же 40%, не выбирая из деревни все подчистую, не доводя ее до голода. За счет того, что стоимость, то есть рыночная цена качественного зерна, намного выше, чем дрянного, — Маркс ж это на пальцах объяснил. Правда, переоснащение аграрного сектора задержало бы на несколько лет индустриализацию, а марксисты-диктаторы, как сказано, не желают ждать. Они строили Вавилонскую башню с крыши, кладя в основание жизни людей.
В городах тем временем уже продавались булки и ситники. Ведь крупные города — это витрина строя, ее надо оформить еще раньше крыши. Откуда взялись белые булки, если страна производила зерно, пригодное только для скотины? Его импортировали! Покупали на деньги от продажи того зерна, которое выгребали до зернышка из колхозов. Нищая деревня оплачивала не только индустриальные флагманы, но и витрины строя.
Так было не только в 1930-х — в период расцвета Великого строя под названием «развитой социализм» царил все тот же убыточный вид животноводства, жертвоприношения священным коровам. В 1946-1947 годах — снова голод. Нужно было выкачать из деревни достаточно продовольствия, чтобы с фанфарами отменить карточки в городах. Не менее важно было еще вывезти 2,5 млн тонн зерна в страны Восточной Европы, чтобы они там не голодали на виду у всего Запада.
А кроме «голодного экспорта» еще и принудительные переселения. Сначала в Зауралье и в Сибирь ссылали кулаков, потом «подкулачников», за ними и середняков, крестьян с каким-никаким достатком. В 1930-е из деревень в Сибирь было выселено вдвое больше народу, чем при Столыпине, — около 4,8 млн человек. Марксисты-ленинцы решали все ту же задачу: освоить азиатскую часть страны. Только добровольное переселение их уже не устраивало. Ждать они не желали и к тому же стремились сорвать людей с насиженных мест, лишить их корней, обезличить, разобщить, чтобы каждый ощущал себя пресловутым винтиком в одной из множества шестеренок Великого строя. И вот уже пара миллионов семей ударно вкалывает на стройках века.
Людей везли в тех самых «столыпинских вагонах», в которых при Столыпине добровольные переселенцы перевозили свой скот! Переселенцев Великого строя высаживали на полустанках в голой степи, заставляя рыть землянки, а наутро уже выходить на работы. Переселения сопровождались голодом. Родители бросали детей на железнодорожных станциях в надежде, что вдруг кто-то их подберет, а если нет — то хотя бы самим не видеть их голодной смерти… В 1931, 1933, 1936 годах в разных частях страны среди бела дня люди падали на землю и умирали… От истощения. В мирное время, не в ленинградскую блокаду! Когда читаешь об этом, в голове лишь один вопрос: во имя чего? Зачем?
Во имя второй священной коровы — «ревущей индустриализации», вот зачем. В новостях, книгах, фильмах людям рассказывали о промышленных гигантах, которые как грибы растут в чистом поле за счет ударного труда советских рабочих и инженеров, ученых и изобретателей. И деревня трудится с ними в едином порыве. Какие сочные снопы стояли на ВДНХ, какие сытые и чистые свиньи водились там (увы, исключительно там) — любо-дорого посмотреть! Идеологи строя мастерски апеллировали к гуманизму, к самым естественным желаниям человека — потребности в достатке, в счастье и радости жизни. В их сказки хотелось верить.
До начала 1970-х из деревни не было исхода. Разве что после призыва в армию парням удавалось не вернуться обратно. Да еще деревенские уезжали из своего села по «оргнабору», когда в село приезжали специально обученные люди и вербовали рабочих на разработки торфа, лесозаготовки, строительство дорог или восстановление Донбасса. Или еще куда-то, но всегда снова на «прикрепление» к конкретному месту, к одному виду труда — тяжелому, низкооплачиваемому, который «просто так» не бросить, чтобы податься куда-то еще.
1972 год… Мой будущий муж собирается ехать поступать в институт в Москве. На руках — справка из сельсовета! Она подтверждает, что колхоз не против его учебы. Уже полвека власти «трудового народа», а тот все живет, отрабатывая месячину и получая трудодни. Современная молодежь может себе такое представить? Эй, ребята, вы все еще верите в «развитой социализм»?
Кормится же деревня с личного хозяйства, которому и название-то дали совершенно хамское — подсобное, чтобы колхозу подсобить. Не ему же заботиться, чтобы колхозник не подох с голоду. За размерами подсобного хозяйства следят строго, чтоб, не дай бог, колхозник ненароком не разбогател. Если в семье с дюжину человек, то вторую корову разрешат, у остальных отбирают. И это не годы продразверстки, а «развитой социализм»!
Денег не платили, зато налоги собирали исправно. В 1950-1970-х деревня платила государственный сельскохозяйственный налог и кучу местных — на ловлю рыбы, на постройки, на поголовье скота, на все транспортные средства вплоть до велосипедов и еще разовые сборы на колхозных рынках. Размер налога на личное подсобное хозяйство был на 100% больше налога на колхозников. Но и это не все: «…почти каждая семья в деревне всегда подвергалась и самообложению, которое, в отличие от налогов, являлось добровольным сбором»[51]. Решения принимались общим собранием селения, деньги шли на ремонт дорог, школ, больниц и клубов.
Налоги на доходы от подсобного хозяйства собирали раньше, чем они возникали. С каждой яблони, с каждой головы птицы, с каждой свиньи. Со всего, что чисто теоретически может помочь человеку произвести доход. «Бог терпел, и нам велел терпеть» — так, по рассказам моей свекрови из Орловской области, сказали ее односельчане, когда в 1960-х узнали, что пришло решение брать налог с каждой яблони. И они пошли их рубить. За ночь в деревне не осталось ни одного яблоневого сада.
Рубили не только возможности людей добывать для себя деньги, убивали их потребность зарабатывать. Сегодня 30-летний внук моей покойной свекрови отбывает по восемь часов ничегонеделанья в райвоенкомате, получая гроши, но никуда не рвется. В сознании большой части народа прочно засело убеждение, что деньги растут-таки на деревьях, только обычному человеку до них не дотянуться. Может, на тех самых, срубленных, они и росли, теперь-то уже не проверить…
Это и есть внутренняя колонизация: деревня, то есть колония, оплачивала жизнь метрополии — закладку флагманов промышленности и жизнь городов-витрин. Оплачивала не только белые булки, праздничные демонстрации, которые кочевали по экранам в журналах «Новости дня», но — уже вместе с рабочими флагманов — и достижения в области балета, атомную бомбу, полеты в космос. Эти достижения были реальными, невероятно впечатляющими, если не принимать в расчет уплаченную за них цену. Но они оставались парадными экспонатами витрины, демонстрируя величие страны, где в деревне и тысячах мелких городков не было ни сортиров, ни порой даже электричества…
За фасадом ревущей индустриализации
Создание поражающей своей мощью индустрии, причем в ошеломительно короткие сроки — за три довоенные пятилетки, — сверхзадача. Доказать всему миру, что страна стала суперпередовой. Обогнать по объему промышленности Америку. В стране, которая в очередной раз пустилась в догонялки, вопрос стоял именно так.
Денег, добытых грабежом деревни, на это хватить не могло. Но экспортировать нефть, алмазы, другие сырьевые товары страна могла тогда в очень скромных размерах. Лишь к началу Великой Отечественной доля нефти достигла 22% в общем объеме экспорта. Ведь для добычи и переработки сырья уже требовалась развитая промышленность и транспортная инфраструктура. Откуда же еще брались деньги?
У городского населения с дореволюционных времен осталось приличное количество золота и драгоценной ювелирки — считается, что около 250 млн золотых рублей. В стране открываются торгсины — более 300 магазинов, торгующих якобы с иностранцами, продавая им за валюту деликатесы и элитный ширпотреб. Но и простым советским гражданам путь туда не был заказан. Ради того, чтобы купить просто нормальной еды, которой не было в обычных магазинах, люди несли в торгсины фамильное серебро, бабушкины сережки, мамины свадебные бриллианты. Торгсины существовали в 1932-1936 годах. Всего четыре года потребовалось для того, чтобы вытянуть из населения личные ценности.
Это капля в море, хоть и не лишняя. Где же еще взять денег? Придумали займы у населения. А что, клевая штука — каждый обязан купить облигации займа, который замутило государство, сначала раз, через пару лет еще раз, потом еще один заем. Сколько облигаций пропало в войну, погибло вместе с владельцами, изъято при арестах!.. А те, что люди умудрились сохранить, были погашены. Конечно, а как же иначе, раз народное государство обещало вернуть народу долг. Займы начали погашаться в 1960-х, при Хрущеве. Нормально, да? Людей, имевших по одному пальто и по одной паре туфель, заставляли давать государству кредиты на 30 лет.
И все равно не хватает! Включается печатный станок. За две первые пятилетки денег нарисовали вдвое больше, чем стоил весь объем товаров потребления народа. Значит, инфляция. Подождите! При социализме не бывает инфляции — так утверждали создатели политэкономии социализма. Ну, значит, ее и не было, просто цены чуток подросли. А потом еще чуток, и еще… Хотелось всего и сразу. Большого перелома, огромного скачка. Как в передовой Америке, только круче.
«Русские были одержимы идеей кнопки» — это из уже цитированной тут книги М. Давыдова. Поставить коробки заводов, завезти в них импортное оборудование, нажать кнопку… И все закрутится, как в Америке, где, собственно, партийная и хозяйственная номенклатура страны и насмотрелась на конвейеры.
Вбухивали колоссальные средства в коробки заводов, завозили поточные линии из-за границы, чтобы тут же с них поехали трактора на колхозные нивы и грузовики, груженные металлом. «Нет таких крепостей, которые не могут взять большевики!»
«А включаешь — не работает!» — это Жванецкий. В первые две пятилетки удалось запустить в основном то, что осталось от хозяйства дореволюционных русских промышленников. Завод АМО, один из флагманов индустрии, позже переименованный в ЗИЛ, заложен в 1916 году на деньги Русского автомобильного общества. Это в основном деньги Рябушинского. Заработал завод в конце 1920-х. Тогда же якобы был построен завод «Электросталь», который на самом деле был создан в 1914 году и обеспечивал русскую армию боеприпасами во время Первой мировой. Флагман питерской промышленности — Кировский тракторный — был до революции Путиловским заводом, как мы уже знаем. Даже главная гордость тех лет, первая ветка московского метро от Сокольников до парка Горького, а вслед за ней еще две ветки были построены по чертежам, созданным еще в 1910-1913 годах, уже весной 1914 была подготовлена площадка для первого депо сегодняшней «красной ветки» и были завезены материалы.
Работал автомобильный завод «Руссо-Балт», национализированный у русско-французских промышленников. После революции его переделали в бронетанковый завод и отдали в концессию… немецкой фирме Junkers. Той самой, что производила «юнкерсы» — транспортные самолеты, истребители и бомбардировщики, которые потом исправно утюжили ковровыми бомбардировками наши города. Ударно работали горнорудные шахты и металлургические производства Донбасса. Только не забудем, что создал их Джон Хьюз из Уэльса, построив для рабочих шахт и завода городишко, названный потом Юзовкой. А когда потенциал, наработанный русскими промышленниками, уже был прибран к рукам и выдан за достижения Великого строя, дальше дело двигалось вперед в основном мозгами иностранцев и руками заключенных. И двигалось из рук вон плохо.
Несложно нарыть каналов и настроить дорог и заводских коробок, когда есть заключенные и ссыльные. Аж 20 млн раскулаченных, представителей партийной оппозиции и еще бесконечных категорий «врагов народа» — саботажников, антисоветчиков, иностранных шпионов, дворянского отродья… Скажете, цифру 20 млн выдумали, чтобы опорочить Сталина? Многие сегодня так считают, появляется все больше статей и работ, в которых приводится когда 9 млн, когда 3 млн, а то и 900 тысяч. Но первый человек, который попытался посчитать, был историк Рой Медведев, и у него эта цифра составила 40 млн! Велись подсчеты и западными историками. В конечном итоге на цифре 20 млн — только погибших в лагерях! — сходится большинство.
Не надо великого ума, чтобы закупить горы импортного оборудования при помощи принудительных займов и грабежа деревни. Эти вложения порождали хаос, незавершенку, скопление неиспользуемого оборудования в одних местах, отсутствие запчастей — в других… Мало построить заводы по иностранным проектам и купить для них станки, надо к этому как-то приладить труд. Ведь Маркс ясно сказал, что стоимость создается только трудом, а все кормчие Великого строя были марксистами-ленинцами. Значит, должны были как-то встраивать живой труд в свои планы.
Встраивали с ленинско-сталинской простотой. На ударных стройках — Днепрогэсе, Магнитке, Уралмаше, Уралвагонзаводе, Челябинском, Норильском металлургических комбинатах, Сталинградском тракторном заводе и десятках других вкалывали и депортированные (переселенцы), и деревенские, сумевшие вырваться из колхозов. Потомственных питерских, уральских, московских рабочих было ничтожное меньшинство, они полегли в мировую и Гражданскую, тех, кто выжил, быстро разоблачили как «вражеских элементов» со всеми вытекающими последствиями. Получается, что снова, как и при Витте и Столыпине, на заводах и комбинатах работали вчерашние крестьяне? Получается, так. Приладить этот труд к завезенным с Запада технологиям и оборудованию непросто — не та квалификация! Рабочая сила существовала сама по себе, технологии и оборудование с Запада — сами по себе.
Неправда, скажете? У нас была самая передовая инженерно-техническая интеллигенция. Была, только она появилась много позже. Лишь в 1930 году было введено обязательное начальное образование, а в городах — обязательная семилетка. Первые вузы стали появляться в начале 1930-х, но в них еще надо было пять лет отучиться, а потом приобретать опыт и навыки.
Второй московский автосборочный завод КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) был построен по фордовским чертежам. Американские инженеры сбежали оттуда в первый же год, потому что от них требовали невозможного. Чтобы конвейер работал в заданном режиме, комплектующие должны поступать по часам, в точном соответствии с технологическим процессом. На КИМе их приходилось ждать неделями. Рабочим было совершенно до лампочки, что, как и в какой последовательности производить. В одних цехах был завал монтировочных рам и осей, в других — нехватка двигателей. Фордовские инженеры приходили в ужас.
Знаменитый ГАЗ тоже строили американцы — по техническому проекту компании Austin. Американцы запустили завод и даже сверх договора построили заводской поселок под Нижним Новгородом — для себя, но после отбытия заморских гостей он стал общежитием для рабочих. Однако нелестные оценки в адрес американцев все равно остались в советской историографии. Все годы строительства и запуска ГАЗа между фирмачами и руководителями советского автостроя, которые стояли во главе строительства, продолжался конфликт. Намеченные сроки не выдерживались, бюджет проекта был превышен многократно из-за вечной нехватки материалов и переизбытка работников, занятых расчетами, учетом, переучетом, а главное — выбиванием фондов, тех самых материалов, которых вечно не хватало. В мемуарах об этой стройке представитель компании Austin инженер Генри Майер писал, что ГАЗ стал самым дорогим и самым неприбыльным проектом за всю историю компании.
Завод наконец заработал… По проекту он должен был выпускать в день 1200 грузовиков, а выпускал 70, от силы 100. Из них на ходу была дай бог половина. Все закупленные для начального периода запчасти израсходовали в первые полтора года, а собственными силами по оставленным чертежам производить их, как это предполагалось, советский рабочий оказался не в состоянии. Его этому не учили, а сам он и не стремился понять, как все это крутится, как устроен автомобиль или двигатель. И не понимал, как устроен общественный двигатель — то есть ради чего он сам работает и что получит, если станет работать лучше.
Никем не считаемые колоссальные вложения, дармовой труд, массовые закупки дорогостоящей техники на Западе — и все равно планы из года в год не выполнялись. А газеты пестрели мифическими цифрами: 20-30% темпов роста промышленности в год. Такого не бывает в принципе.
К началу 1930-х «размазывание» огромных средств по сотням объектов и обилие незавершенки решили поправить. Несколько строящихся крупнейших производств объявили приоритетными флагманами, витриной промышленной державы. Кузнецк, Магнитка, Днепрогэс, Сталинградский и Челябинский тракторный заводы — даже самые юные наверняка слышали эти названия. В 1930 году был создан Госпроектстрой, который за 30 лет распиарили как главную кузницу инженерных кадров, где рождается научно-технический прогресс. В разные годы там работало 2-2,5 тысячи инженеров и проектировщиков.
Умалчивают об одном: кузницу создала архитектурно-строительная компания американского предпринимателя Альберта Кана, ставшая главным проектировщиком советского правительства. Контракт с компанией Кана стоил 2 млрд долларов — примерно 230-240 млрд по сегодняшней покупательной способности доллара. Компания отправляла в Союз изобретателей, конструкторов, инженеров, выполняла чертежи по промышленному строительству и технологическому проектированию самых различных отраслевых производств. В стенах Госпроектстроя была спроектирована практически вся тракторная, автомобильная и танковая индустрия. По чертежам, разработанным здесь, строительство новых объектов велось и в послевоенные годы. Вы никогда не слыхали об Альберте Кане? Конечно, вам никто о нем и не рассказывал. Ведь крупнейшее инженерно-конструкторское бюро мира, которым «Госпроектстрой» был в 1930-1960-е годы, могло быть детищем только передовой советской мысли.
Аналогичным образом создавались черная и цветная металлургия. Гипромез — институт по проектированию металлургических заводов — нанял другую американскую проектно-конструкторскую компанию. Arthur McKee Company из Кливленда спроектировала Магнитку и оборудовала ее станками. Потом на кливлендских станках перебивали маркировки, а советские инженеры пытались сделать «точно такие же», но с оригиналами эти копии не могли сравниться ни по производительности, ни по износостойкости.
Оборудование для Днепрогэса поставляла немецкая Siemens, в ее подразделениях НИОКР готовили конструкторские и инженерные разработки. Можно привести много таких примеров.
Нет ничего дурного в привлечении иностранцев к созданию индустриального богатства, раз стоит задача, чтобы у нас было по крайней мере «не хуже». Но дело в том, что привлечение иностранцев к советским догонялкам могло дать ожидаемые плоды только в одном случае: если бы иностранцы приносили не только знания, но и вкладывали бы собственные деньги, участвовали в принятии решений, добиваясь прибыльной работы производств. Но они работали по контрактам: сделал чертеж, получил копейку — и от винта. Их близко не подпускали ни к запуску, ни к управлению, ни к решениям, сколько и каких рабочих надо нанимать. Иностранцев, которые пытались лезть в эти вопросы, могли запросто записать в «иностранные шпионы». Что они лезут? Кто считает, во что эти заводы обходятся, прибыльны ли они или убыточны? Нам этого не нужно. Коммунисты меряют успех не деньгами, а штуками, тоннами и километрами.
Русские промышленники тоже привлекали в свои общества иностранный капитал, но при этом все работало. Нобель — да, именно брат учредителя Нобелевской премии — собственными силами начал делать в России первые дизели, по его заказу Шухов спроектировал первый нефтепровод. И сами русские без дела не сидели. Инженеры, выращенные и выученные на производствах Мальцовых, Морозовых и других, со многими задачами справлялись лучше иностранцев. Все росло как на дрожжах в последние 20 лет перед Первой мировой, и при этом не было ни рабского труда, ни постоянного поиска вредителей. Люди просто работали за деньги. И сами предприниматели, и их рабочие прекрасно понимали, откуда деньги берутся, как накапливаются и как превращаются во все более сложный и передовой в техническом отношении капитал.
В советской империи все делалось таким способом, будто ни деньги, ни человеческие мотивы, ни качество человеческого материала не имело к процессу никакого отношения. Богатство великой державы не имело никогда отношения к достатку ее граждан, никак не меняло уровень их жизни. Для Великого строя человека не существовало.
«Я верю в развитой социализм»
Третья священная корова — равенство — это уже неприкрытое вранье. Великий строй был семьюдесятью годами колоссальной внутренней колонизации, развития метрополии и украшательства ее витрин за счет остальной страны. По мере развития «развитого социализма» неравенство не сглаживалось, а росло.
Метрополией были две столицы — Москва и Ленинград — и еще полдюжины избранных городов. Их жители ездили на курорты Симеиза и Гурзуфа — правда, если им удавалось выбить путевки на работе. Они десятилетиями стояли в очередях на квартиры, но когда-то все же получали жилье. Они могли купить в магазинах сыр, а то и икру, смотрели по телевизору «Голубой огонек» и даже лично знали счастливчиков, которым удавалось добыть туда приглашение.
В неизбранных городах все было скромнее, в магазинах икры и сыра не попадалось, но еды было вдоволь. Там водились какие-никакие деньги, работали предприятия, там можно было жить в комнате в коммуналке, где по крайней мере был теплый сортир и даже ванная — одна на восемь семей. Хотя большая часть населения по-прежнему, как и в 1930-х, жила в бараках.
В поселках же и деревнях жизнь была совсем тяжкой. Как только в 1970-х деревенским начали выдавать паспорта, они повалили из деревни. Колхозы стали разваливаться, не хватало рабочих рук. Деревня умирала. Только картошки было вдоволь, да хлеба можно было купить, когда привозили, — из города, заметьте. Кур резали только по праздникам, говядина отсутствовала как класс: резать корову, которая дает молоко, никому в голову не придет. Разве что свинью по осени зарезать, чтобы с мясом до оттепели как-то продержаться.
Да и бог с ней, с умирающей деревней. Ведь страна уже стала индустриальной державой! Уже построены нефтяные вышки, трубопроводы, металлургические заводы. Вывоз сырьевых товаров стал основой экспорта, а в начале 1970-х на порядки взлетела цена на нефть. Удача-то какая! Нефть оплатит все, что душе угодно.
В экономику, в развитие производства государство вкладывало лишь чуть больше половины хлынувших в Россию нефтедолларов. Их распределение строго ранжировалось между предприятиями и научными центрами. Вторую половину нефтяных доходов страна просто проедала. Нефтью платили за гэдээровские колготки наших матерей и бабок, за французские духи, китайские полотенца, польскую и югославскую мебель. Это импортное счастье распределялась по городам тоже строго по ранжиру, в зависимости от степени избранности. Но даже в витринных столицах простым смертным за этим счастьем надо было давиться в очередях, писать на руках номера химическим карандашом, по ночам собираться на тайные сходки, где за неявку человек терял надежду купить мебельный гарнитур.
И тут же, вроде бы рядом с народом, но на самом деле за высокими заборами существовал особый слой людей, который не хотел жить скудно и давиться в очередях. Ключевым понятием в иерархии неравенства Великого строя становится слово «номенклатура». О ней не вычитать у Маркса, который обличал буржуазию, о ней помалкивала марксистско-ленинская партия.
Назначения директоров рядовых предприятий и должности в райкомах партии были прерогативой областных комитетов партии — они относились к областной номенклатуре. Директора предприятий союзного значения, областное партийное руководство, дипломатическая верхушка входили в номенклатуру Центрального комитета партии. Распределение министерских портфелей и назначение председателей областных партийных комитетов — высшая номенклатура, тут решения о назначениях принимало Политбюро ЦК КПСС.
Избранность номенклатуры тоже строго ранжировалась. Чины помельче получали квартиры, отстояв в очереди на жилье не 20 лет, как простые смертные, а, прямо скажем, сильно быстрее. И не в «хрущобах» или «панельках», а в домах из бело-желтого кирпича, которые так и называли — «цекушки». Крупные тузы получали квартиры вмиг, причем не только для себя, но и для выросших детей. Каждый номенклатурщик ездил в санатории на Черном море строго по чину, кому полагалась койка в палате на четверых с туалетом в конце коридора, а кому — апартаменты с балконом на море. Для каждой группы номенклатуры существовали свои закрытые поликлиники и больницы.
Пока простые смертные душились в очередях за посиневшими курами, номенклатура подъезжала на черных лимузинах к неприметным зданиям, о которых не принято было говорить. К «распределителям». Дипломаты отоваривались в валютных магазинах. Крупные чиновники, хозяйственники и верхний класс партийной номенклатуры — в закрытых продуктовых магазинах, в закрытой для остальных «сотой» секции магазина ГУМ. Там не надо было никого душить, можно было небрежно покупать импортные джинсы, шубы, туфли по ценам, назначенным партией, исходя из ее решения, что доллар равен 63 копейкам. Так что джинсы ценой 60 долларов в Америке можно было купить за 40 рублей. Номенклатурная иерархия скреплялась инстинктами капиталистического потребления, удовлетворяя дозволенные каждой ее группе потребности скрытыми от народа способами.
Можно возразить, что элиты и простые смертные сосуществуют всегда и везде. Верно, только элиты в обществах, основанных на капиталах, сами создали свое богатство, отчего они и превратились в элиту, то есть в наиболее состоятельный, образованный слой. В элиту человеку из низов пролезть сложно, но никто не запрещает, многие только тем и заняты, что всю жизнь в нее лезут, и у них это чаще всего получается.
Великий строй назначал элиты. Лифт в номенклатуру был только один: из деревни или неизбранного города после армии — на рабфак какого-то второсортного института, затем — на курсы партийных работников и карабкаться, карабкаться по лестнице. Партийной, или хозяйственно-партийной, или творчески-партийной, но партийной непременно. А потом — до похорон в Колонном зале — только врать, врать и врать о том, что все равны, помалкивая, что некоторые равны больше других.
Вранье о равенстве калечило сознание нации. Вопреки очевидному неравенству, о масштабах которого обычные люди могли только догадываться, они обязаны были верить, что все равны. «Что стоят способности человека, врожденные или развитые, если у него отнять право отличаться от других», — любила повторять Маргарет Тэтчер, героиня одного из следующих очерков. Право на неравенство — естественное право человека, оно заставляет его искать путь к деньгам, прилагать для этого усилия. Неравенство — топливо для общественного двигателя. Соревнуясь в успехе, люди делают более эффективной всю экономику. Великий строй отказывал человеку в естественном неравенстве. Отказывал лживо, в номенклатурных кабинетах решая, кому что положено.
Это специально для тех, кто все-таки, вопреки фактам, продолжает говорить «я верю в развитой социализм» или «кроме рыночных есть и другие справедливые и эффективные общества». Нет их! И не было! И быть их не может! Человек трудится только ради того, чтобы преуспеть, или ради того, чтобы выжить. Ради выгоды или под страхом смерти. Третьего не дано.
Я иду вверх по мраморной лестнице от моря к полукруглому зданию в стиле сталинский ампир. Двести пятьдесят ступеней, балконы, терраски — все из белоснежного мрамора. Вокруг парк-дендрарий — пальмы, кипарисы, запахи цветов, которые смешиваются с запахом моря. Роскошь санатория «Русь» в Сочи.
Я объездила полмира, но я потрясена. Не роскошью, хотя она лезет отовсюду, а тем, что она была создана в 1954 году специально для тех самых людей, которые твердили, что неравенство — зло, деньги — зло, капитал и богатство — зло. Эти люди фланировали по променаду, похрапывали на лежаках с подогретыми полотенцами, пили «Массандру» в ротонде у моря. И твердили о равенстве нашим родителям, стоявшим в очередях за мороженым хеком.
Доктрина о всеобщем равенстве исчезла сегодня из государственной риторики. Но отравила мозги настолько, что осталась в сознании даже самых молодых как блаженная маниловщина. Превратилась в фастфуд, поглощается охотно и никогда не насыщает.
Неравенство было и будет всегда. Оно неискоренимо и полезно! Оно естественно для общества, которому нужна и элита, и работяги, и водители автобусов, и чистильщики сортиров. Неравенство органично присуще природе человека. Равными людей делают только закон и деньги. Разный уровень жизни, разный достаток, который каждый создал себе сам, без номенклатурных непробиваемых стен, — вот что делает людей равными.
Социальной неприязнью к успешным мы платим сегодня за иллюзию о том, что можно быть равными в уровнях жизни. Успех объявлен «крысиными бегами». Тонны лжи о всеобщем равенстве мешают современному человеку понять, что это достойно — желать выделяться среди других, стремиться к успеху и деньгам.
Мы все рождаемся из глины. Только глина разная. Одна годится, чтобы выращивать ананасы, другая — чтобы растить лопухи. Неравенство заставляет преодолевать барьеры, поставленные природой и средой. Апеллирует к лучшему, что есть в человеке: к стремлению устроить жизнь как можно лучше для своей семьи. Люди равны в своем праве самостоятельно лепить себя из той глины, что досталась им от рождения. Правда, верить в свои силы труднее, чем в равенство Великого строя, которое когда-то несправедливо отняли.
Где был марксизм все семьдесят лет?
Тайная каста номенклатуры считала себя последователями Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Сталина, правда, потом отчислили из иконостаса, хотя ох как многим это не понравилось… Где у Маркса сказано, что после установления диктатуры пролетариата сложится система грабежа витринной метрополией своих колоний, что десятилетиями будет существовать принудительный труд в самых разных формах? Нигде. А ведь это была реальность Великого строя, которую «научно» объясняла марксистско-ленинская политэкономия социализма.
Пять поколений студентов падали головой на книги, которые нужно было законспектировать. В текстах ничего не клеилось, нельзя было понять, какое отношение они имеют к жизни. Но учить приходилось, иначе не видать диплома врача или инженера. Мозги должны быть промыты у каждого.
Один пример. Маркс обосновал, что такое основной экономический закон капитализма — постоянно растущее производство прибавочной стоимости. Из него вытекает и закон капиталистического накопления, и закон расширенного воспроизводства капитала. В итоге Маркс даже в «Коммунистическом манифесте» не мог отрицать, что «буржуазия менее чем за 100 лет… создала более… грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие поколения, вместе взятые», как мы уже слышали. Все логично, понятно, как производится прибавочная стоимость, как накопленный капитал снова идет в дело, воспроизводя и расширяя производство…
А вот чтобы вспомнить основной закон социализма, пришлось лезть в старый учебник номенклатурного академика Островитянова, получившего от партии в свое время массу благ, включая особняк в поселке Николина Гора на Рублевке.
«Основной экономический закон социализма — это обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества посредством наиболее полного удовлетворения их постоянно растущих материальных и культурных потребностей, достигаемого путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе научно-технического прогресса»[52].
Это лозунг, а не закон, извините. Почему постоянно растут потребности, как их удовлетворяют, что движет непрерывный научно-технический прогресс при социализме? Об этом ни слова. Книжка захлопывается, конец лекции.
Ирония в том, что в реальности — в той мере, в какой Великий строй сумел развить мощную промышленную базу, — развитие шло по прежним законам капиталистической экономики. Они объективны, их не отменить. Правда, можно вывернуть наизнанку.
Прибавочная стоимость называлась прибавочным продуктом, раз деньги при Великом строе не приветствовались и даже мысли о них не поощрялись. Но это обертка, бог с ней. Так ведь и прибавочный продукт создавался за счет того, что рабочий получал зарплату лишь за часть своего труда, остальное присваивалось государством.
Норма прибыли — точно так же, как в Англии времен Маркса — зависела от пропорций между постоянным и переменным капиталом: чем больше доля переменного капитала, тем выше норма прибыли.
Помнили об этом марксисты-ленинцы или нет, но действовали они в точности по этим законам. Где только было можно использовался живой труд. Чем больше, тем лучше. Сто заключенных с кирками и тачками — дешевле экскаватора! Деревенские бабы, по трое тянущие плуг, — дешевле комбайна.
Как ни старались выкорчевать товарно-денежные отношения, а эквивалентный обмен товаров по стоимостям вылезал то тут, то там. На черном рынке джинсы стоили не 40, а 200 рублей, замшевая куртка — 500, там можно было «достать» — ключевое слово в жизни советского человека — хоть заграничные сигареты, хоть магнитофон. Были б деньги.
И они, кстати, у многих были! У самых что ни на есть обычных людей, если те были способны производить товар, на который существовал спрос. Ничего нового, все по Марксу. Врачи с зарплатой 140 рублей получали за частный визит по пятерке в час. Преподаватели вузов репетиторством зарабатывали втрое больше того, что им платило государство. В бесплатном здравоохранении за деньги можно было купить одноместную палату, руки лучшего хирурга, послеоперационный уход, импортные лекарства.
За частную практику могли выгнать с работы, за торговлю дефицитом винтили, за покупку и продажу валюты сажали и даже расстреливали. Товарообмен по стоимостям совершался в подполье, но убить его было невозможно. Даже если людей наказывать за следование естественным законам, законы от этого не исчезают и не меняются. Они просто перестают работать на создание богатства общества.
…И партийная народная интеллигенция
Интеллигенцию «вообще» Великий строй не жаловал, но таланты, надо признать, почитал. Им вменялось в обязанность драпировать реальность гуманными сказочными историями. Так ведь таланты все как один «мыслящие», значит, им-то реальность должна была быть понятной. Донести правду сложно, шаг влево, вправо — внутренняя тюрьма Лубянки, лагерь или психушка. Так в искусстве есть масса художественных приемов, с помощью которых можно было донести до людей сюрреализм перпендикулярно разъехавшихся реальной жизни и догм.
С помощью сатирических подтекстов это виртуозно делали Платонов, Булгаков, Хармс, платя за правду собственными исковерканными судьбами. Наотмашь, с обилием фактов и цифр резал правду-матку Солженицын. Не понимаю, как после его романа «Архипелаг ГУЛАГ» кто-то может называть сталинский террор клеветой, а после «Красного колеса» отрицать, что революция ленинцев переехала Россию и покатила свое красно-кровавое колесо по всей стране, давя любое сопротивление. А из его повести об одном только дне лагерной жизни репрессированного крестьянина можно узнать всю правду о лагерях. «Один день Ивана Денисовича» — не самый плохой день в жизни героя, скорее — хороший. Засыпая на нарах, Иван Денисович перебирает в голове его радости. В тот день его могли бы расстрелять, посадить в карцер за невыполнение нормы укладки кирпича, но повезло: и раствор подвезли, и кирпич подвернулся, и много других мелких удач в тот день случилось…
Эти произведения были каплями запрещенной литературы в море литературы «партийной и народной». Талантливые авторы помогали обманывать народ. Положим, те, кто умер на заре Великого строя, могли еще искренне верить в его созидательность — Горький, Николай Островский, Шолохов, Фадеев умерли, не успев отрезветь от обмана, который им подсунул строй, или умерли именно потому, что отрезвели. Но дальше-то! Дальше сознание самих «мыслящих и образованных» раздваивалось при виде пропасти между правдой жизни и правдой социалистического реализма.
У каждого из оставшихся в истории советской литературы писателей можно найти россыпь крупиц горькой иронии, вкрапленной в сюжеты о том единственным конфликте, который был дозволен соцреализмом, — о конфликте между «хорошим» и «очень хорошим». И все же вся правда о той действительности была не нужна даже самим мыслящим и пишущим.
Как и дореволюционных либералов, их больше заботило отсутствие прав для себя, а не для народа. Тут они быстро вспоминали, что критика власти всегда была флагом «образованного класса».
Противостояние шестидесятников советскому строю началось тогда, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским закручиванием гаек. Они пытались протестовать против ввода войск в Чехословакию, против разгрома выставок художников — проходились по верхушкам произвола Великого строя, но о гнилости его фундамента не произнесли ни звука. Почти все они сами верили в то, что можно построить «социализм с человеческим лицом».
Это нехватка интеллектуальной смелости, боязнь быть честным даже с собой, помноженная на ту или иную степень безразличия к жизни народа. Ведь их собственная жизнь была не столь удручающа, они были частью номенклатуры.
У них были членство в Союзе писателей, спецполиклиники, рестораны Дома литераторов и Дома кино, их пускали за границу в обмен на то, что они там подоврут или хотя бы умолчат о чудовищной правде жизни своего народа.
Деньги, как правило, не тема в детских книжках, разве что в «Буратино» сюжет крутится вокруг денежек, зарытых на Поле чудес. А вот замечательный детский писатель Николай Носов в одной из книг серии «Приключения Незнайки» отправляет малышей-коротышей в мир капитализма, где были деньги — фертинги и сантики. Друзья быстренько устроили там революцию и денежки отменили. Ну кто заставлял автора промывать мозги деткам?
В такой полусказочной атмосфере пребывала почти вся советская интеллигенция, в среде которой модно было подчеркивать непрактичность и бессребреничество. Крохотными крупицами правда прорывалось в сознание «мыслящих», робкими стежками ложилась на бумагу. Останавливал не только страх наказания, просто интеллектуальная смелость — штука крайне неудобная для жизни.
У Юрия Трифонова тема денег представлена, пожалуй, шире, чем у других советских писателей. В его романе «Утоление жажды» появляется совершенно нетипичный для героев Великого строя персонаж, экскаваторщик Нагаев, который мотается по всей стране с одной целью — заработать как можно больше. «Нагаева не любили. Его считали жмотом — "за копейку удавится"» — и одновременно завидовали его известности, уважению, которым он пользовался у начальства, «его умению работать и крупным деньгам». Мимоходом всплывают и другие штрихи социалистического производства — разряды рабочим повышаются… за деньги! Проще говоря, за взятки.
Мается безденежьем трифоновский герой повести «Обмен». На лечение матери ему нужно занять денег — «такая гадость: занимать деньги». Занимает-таки у коллеги по работе Тани, с которой у него был короткий роман: «Из-под кипы чистого белья она достала газетный сверток, развернула и дала Дмитриеву пачку денег». А Таня, оказывается, копила деньги целый год (!), чтобы купить себе новое пальто. Но не купила, потому что магазины были пусты. Так пусть лучше мужчина, от любви к которому она так и не излечилась, на эти деньги вылечит свою маму. Минуточку, почему для лечения мамы были нужны деньги, раз при Великом строе была бесплатная медицина?! Была. Только без денег мать было не вылечить.
Александр Бек сумел издать свою книгу «Новое назначение» в Германии. Вот где правда-то! Не эпохальное осмысление исторических изломов, а обыденная правда, которая шрамами ложилась на жизнь каждого. Герой книги ударно вкалывал на стройках социализма, прошел путь от инженера-стажера до наркома танковой промышленности, чудом избежал репрессий, преданно служил партии. И вдруг его назначают послом в неприметную страну. Здоровье разрушено суровым режимом, который герой сам себе создал, отдавая все силы Великому строю, он умирает от рака. В больничном одиночестве крутится в голове одна мысль: «Почему он так поступал? Ведь понимал, где правда». Понимал, что нельзя строить завод как приказывали, понимал, что врали на партсобраниях, приписывая цифры к выполнению планов. Все понимал, но… В последний момент сердце ухало, и, закрывая глаза на правду, он ставил свою подпись под ложью. И вот теперь от этой лжи корчится отравленное тело. От нее нестерпимая боль.
Претензии к «мыслящим» того времени не в том, что они не подхватили крик Солженицына, а в том, что они, подобно интеллигенции дореволюционной, не очень-то думали о жизни народа. Они жили собственными обидами на Великий строй: кладут на полку фильмы, приходится писать в стол. Но даже в тех фильмах, что ложились на полки, в неопубликованных книгах они не пытались объяснять всю бесстыжую бессмыслицу того строя. Сложилась у русских мыслящих и оппозиционно настроенных традиция замыкаться на собственных обидах и претензиях к власти. Они удивляются, почему народ их не слышит. Так они и не прикладывали усилий, чтобы быть услышанными. Зато винить народ в том, что тот мало что понимает, — это у «мыслящих» запросто.
А что народ может понять о той правде? Память хранит нас от сомнений в незряшности собственной жизни, услужливо вытаскивает из собственного архива счастливые картинки: как радостно было отправлять детей в лагеря к Черному морю, накрывать на Новый год стол с мандаринами… Из нынешнего настоящего та жизнь кажется сносной, а то и ностальгически прекрасной.
Это сегодня мой муж поражается, как в школьные годы ему не приходила в голову простая мысль, что жизнь его родителей и их односельчан в 1960-х мало чем отличалась от жизни крепостных. Глядя назад, понимаешь больше. А тогда, в те годы, мы, что же, были совсем слепы? Тут надо отдать должное мифотворцам — они не жалели денег, не скупились на награды номенклатурным талантам за создание шедевров поп-культуры, которые укрепляли веру в то, что жизнь делается все краше. А теперь отраженный свет «той жизни» и становится предметом ностальгии.
Отсюда и заклинания типа «как было прекрасно при развитом социализме!». Из памяти народа и сегодня старательно вымарывают правду, и делает это не госпропаганда — прежде всего сами люди. Вранье, которым жили пять поколений предков, никто не хочет отрабатывать. От этого в головах одни «умственные шатания», как говорил Витте. Одни заламывают руки, проклиная Великий строй, другие скорбят, что мы его потеряли.
А уж о том, что происходило тем временем в остальном мире, просто почти никто не знает и не пытается узнать. Это и сегодня кажется совершенно лишним, хотя там столько всего происходило! Шли споры, возникали новые экономические теории, проводилась успешная политика развития и провальная политика, заводившая нации в тупик. Накапливался опыт, одним словом! Колоссальный опыт.
Пора заглянуть по ту сторону «железного занавеса». Разобраться, как развивалась Атлантика, пока наша страна жила в мороке Великого мифа, от которого мы до сих пор не можем до конца очухаться.
Рузвельт и Кейнс: государство, спасающее деньги
Голодая в деревнях и вкалывая на ударных стройках, отправляясь на битву за мороженым хеком, люди в России не думали, что происходит в странах Атлантики. Есть ли жизнь за «железным занавесом», нет ли — что Европа, что Америка, что Марс… Их даже одним глазком не увидеть. Ну слышали в школе, например, про какую-то Великую депрессию, которая началась в Америке, а потом перекинулась на Европу, и что из того?..
Из того родился великий потоп, едва не превративший Атлантику в затонувшую Атлантиду. Кризисы случались и раньше, но спады сменялись подъемами. А тут год за годом — разорения, безработица, очереди голодных за миской супа. Потоп смывает веру в основу основ — рынок. Какой, к черту, рынок, если фермеры ничего не могут продать и жгут выращенное зерно, чтобы обогреть дома!
После Первой мировой — период процветания, такой контраст со странами Европы, лечившими раны войны. Цены стабильные, ВВП непрерывно растет, достаток всех слоев американцев — тоже. И вдруг — годы нищеты, которой Америка, в отличие от Европы, не знала в принципе. Американцы повторяют: «Люди будут говорить "до 1929 года" и "после 1929 года", как, вероятно, дети Ноя говорили о временах до и после Всемирного потопа».
Уж американцам-то не знать, откуда берутся деньги, успели за два века выучить. Авантюрные пионеры-первопроходцы, приплывшие из Европы на корабле Mayflower, создали страну самой полной свободы рынка и самых неограниченных возможностей заработка денег, только прикладывай смекалку и упорство. Сложно сказать, много ли чистильщиков ботинок стало миллионерами, но что Джон Рокфеллер начал путь со счетовода — это факт. И тем не менее даже американцев потоп заразил бациллой сомнений, что, может, «кроме рыночных, существуют и другие эффективные общества».
Спасать страну взялся президент Рузвельт и вроде бы спас… Правда, чуть не превратил ее в плановую экономику. По другую сторону Атлантики англичанин Джон Кейнс создал новую теорию, возложив на государство как главное действующее лицо задачу спасения денег общества. Подобно Марксу, он снова изменил мир: с тех пор все страны Атлантики только и делают, что ищут, находят, теряют и снова ищут баланс между рынком и государством. Вот что родилось из той осени 1929 года в Америке. A все началось в «черный вторник»…
«Во всем виноваты спекулянты…»
На Нью-Йоркской бирже, что на Уолл-стрит, 24 октября внезапно полетели вниз курсы акций. До этого они только росли в течение нескольких лет. «Черный четверг», — тяжко вздохнули банкиры и биржевики. Они не знали, что уже следующий вторник окажется намного чернее. Группа крупнейших банков, собрав по тем временам огромную сумму — 240 млн долларов (около 3,5 млрд сегодня), в надежде спасти ситуацию скупает акции, пытаясь остановить падение. Но 29 октября, именно во вторник, надежда умирает. С утра акции продаются уже по ценам вдвое ниже, чем неделей раньше, все в панике только продают и продают, никто не покупает. Курсы летят все ниже, к обеду биржу приходится закрыть. Кости домино валятся по цепочке — к вечеру и на биржах Парижа, Лондона, Берлина паника. Экономика Америки уже в те годы была самой крупной в мире, ее спады и подъемы будь здоров как транслировались на все страны Атлантики. Началась Великая депрессия, первый в истории всемирный экономический кризис.
Считается, что все началось именно той осенью, хотя, думаю, как минимум парой лет раньше. С начала 1920-х в Америке шел устойчивый экономический рост, которым подпитывалась и Европа. В середине десятилетия наступили «золотые годы» даже в Германии, где до этого латали дыры в экономике после поражения в Первой мировой и росли горы бумажных денег, которые обесценивались с каждым днем.
Вот уже который год в Штатах экономический бум, он уже кажется вечным, вера в свободный рынок сильна как никогда. Энергия денег, которых становится все больше, всегда будет тянуть экономику вперед. Федеральная резервная система США, аналог Центрального банка, держит учетную ставку на уровне всего 2-3% годовых, подстегивая производство. В ФРС же тоже люди работают, им тоже кажется, что рынки Америки и остального мира после войны трудно перенасытить товарами.
Стало быть, деньги дешевы, рабочие покупают в кредит квартиры, «белые воротнички» — дома, фермеры — землю, компании растут. Не только обычные биржевые игроки и банки вкладывают деньги в ценные бумаги, а большинство населения. Взял дешевый кредит, купил акции, через какое-то время продал дороже, вернул кредит, тут же новый взял — и снова в акции… Не какие-то капиталисты, а работяги, даже пенсионеры делали сказочные состояния. Деньги лились рекой, прямо как в середине нулевых XXI века.
Ясно, что цены акций зависят от дивидендов, которые по ним платят, те, в свою очередь, — от прибыли, а прибыль — от финансового состояния предприятий и прежде всего от объема продаж, а значит, от спроса. А вот спрос уже определяют сами люди, в этом вся штука…
Человек не любит проедать или пропивать все деньги, он любит их копить, этому все народы стран Атлантики веками учила протестантская этика. Достаток растет, экономика на подъеме, стоит отложить побольше, приберечь для детей. Чтобы сбережения не просто копились, а росли и желательно быстрее, их нужно во что-то вкладывать. А тут акции, которые растут в цене непрерывно. Так лучше отложить побольше, прибыль-то какая! Через несколько лет размышления насчет «потратить» или «отложить» английский ученый Кейнс назовет «склонностью к потреблению» и «склонностью к сбережению», которые тянут человека в разные стороны. В те годы американцев явно тянуло сберегать и вкладывать, тратили они гораздо меньше, чем могли себе позволить.
От этого спрос на товары стал потихоньку съеживаться. Постепенно снижалась прибыль компаний, но те все еще пыжились, платили дивиденды по-прежнему: ведь падение курсов их акций в придачу к снижению спроса им уж совсем ни к чему. На акции спрос сохранялся, никто не замечал, что их цена уже не отражает реального состояния компаний.
Видя замедление реального производства, ФРС решает подогреть спрос и снова понижает ставку процента. Люди дальше набирают кредиты, но снова большую их часть не тратят на товары, а вкладывают в акции. С осени 1928 года спад в экономике уже виден отчетливо, но ФРС борется с ним опять-таки понижением ставки, стремясь заставить компании производить дальше. Классическое развитие кризиса по Марксу. Непонятно только, почему ФРС так упорно верила в дешевые деньги. К середине 1929 года она стала в панике поднимать ставки, теперь стремясь остановить скупку акций — уже было видно, что добром это не кончится, — но опоздала. Сложно сказать, что именно послужило толчком ко всеобщей панике, это и неважно, крах был неизбежен. Любое событие могло стать триггером.
Рынок получил внятный звонок 21 октября 1929 года — курсы акций пошли вниз. И все равно никто еще целую неделю ничего не хотел слышать и видеть, все скупали акции, рассчитывая, что раз они подешевели, то навар будет еще большим. И так до «черного вторника», когда уже через три часа после открытия биржи стало понятно, что пришел «всемирный потоп».
Начались массовые разорения… Банкиры Уолл-стрит и биржевые брокеры выбрасывались из окон небоскребов. Первыми потеряли свои средства, как водится, мелкие игроки — обыватели. Среди населения, не игравшего на бирже, поначалу преобладало злорадство — приятно, что сосед наказан за алчность. К слову сказать, это была такая же реакция, как в отношении российских валютных ипотечников, попавших в начале 2015 года в западню: рубль рухнул, рублевые платежи по валютной ипотеке выросли вдвое, зарплата осталась прежней. А соседи злорадствовали — нечего, мол, было думать, что Бога за бороду схватили. Все брали ипотеку в рублях, а эти умники повелись на низкие валютные ставки, вот и получили!
Так и фермеры в Штатах еще весной 1930 года считали, что обвал на Уолл-стрит их вообще не касается. У них, мол, не акции, а живое зерно, оно нужно всем. К концу года кризис докатился и до американской глубинки, а еще через год объем сельского хозяйства сократился вдвое…
За 1929-1933 годы вдвое упал и объем ВВП, разорились около 130 тысяч компаний, 2,5 млн семей остались без жилья. Безработица выросла до 25% трудоспособного населения — это 16 млн человек. Точно как у нас той страшной осенью 1998 года, когда случился российский дефолт, американское население забирало вклады из банков, в банковском секторе пошла волна банкротств, люди потеряли больше половины своих сбережений.
Бизнесмены теряют бизнес, домовладельцы — дома, фермеры — землю, заложенную под кредиты. Миллионы людей, лишившихся работы и доходов, осаждают биржи труда, в городах выстраиваются очереди за бесплатной похлебкой. Бездомные бродяги, беспризорники, заброшенные города. Старшее поколение нынешних россиян в школе пугали той картиной: вот он, оскал капитализма, хлебом дома топят! Вместо того, чтобы его голодным раздать…
Не только в наших школах любили простые объяснения. С того «черного вторника» пошла мода винить в кризисах спекулянтов. Какие, к черту, спекулянты, если у Федеральной резервной системы на все был один ответ — дальше отгружать дешевые деньги мешками? Не спекулянтам, а всем подряд отгружать! Люди с легкостью тратили и откладывали намного больше, чем зарабатывали. Дома — в кредит, новый трактор — в кредит…
Далеко не только «марксисты» уже целый век жуют мысль, что во время того кризиса человечество разочаровалось в прежних идеалах свободной экономики. Какое простое объяснение! А почему человечество было очаровано этими идеалами, пока почти десять лет до этого продолжался рост?
Люди поразительно плохо усваивают уроки — и других стран, и своих собственных. Ведь спустя много лет все снова повторялось, и не раз. В начале нулевых годов XXI века в Америке лопнул такой же «мыльный пузырь»: вздутые цены на акции производителей информационных технологий. Не прошло и семи лет, как в 2008 году обрушились цены на недвижимость, разогретые опять-таки дешевыми кредитами. Разорились сначала ипотечные компании вроде Fannie Mae, потом компании, которые вкладывали деньги в их акции, потом инвестиционные фонды, держатели самых разных акций, за ними банки, которые кредитовали всех указанных фигурантов. Когда о банкротстве объявил столп банковской системы Lehman Brothers, посыпался финансовый сектор не только США, а всей Атлантики. Какого черта Бен Бернанке, председатель ФРС США, искушенный экономист, не видел, что его учреждение наступает на те же грабли, что и в конце 1920-х?
После кризиса 2008-2009 годов на улицы столиц мира валили толпы с лозунгами «Захвати Уолл-стрит» — больше всего обожают назначать виновными банки. Люди, считающие себя высокообразованными, твердили: «Кучка спекулянтов какого-то Lehman Brothers зарвалась, играя на повышение, обвалила крупнейший банк, наварив при этом. Грохнулась финансовая система Америки, Европы, да и до России докатился кризис. С какой стати за жадность спекулянтов приходится расплачиваться миллионам людей?»
Забыли — или вовсе не думали — и в нулевых этого века, и в 1929 году, что кризис породили все те же дешевые деньги. За них банки никто не ругал, наоборот, все радовались, что ипотечный кредит может получить каждый, кто в состоянии заплатить первый взнос в размере всего 5% стоимости дома. Каждый жаден по своей природе, не только какие-то спекулянты, а в периоды подъема всем хочется урвать побольше, пока ситуация позволяет.
Тогда же, в Америке 1929-го, впервые пришло разочарование, которое потом повторялось многажды. Тогда же началась новая глава экономической истории не только Америки, но и Европы…
Сделка, предложенная американцам
Осенью 1932 года к власти в США пришел новый президент — Франклин Делано Рузвельт. Передвигался он в инвалидной коляске — последствие перенесенного полиомиелита. Из-за собственных физических страданий он обостренно воспринимал и страдания других, и простой народ это сразу понял.
FDR — так стали называть своего президента американцы — не сомневался в ценности свободного рынка, но решительно взялся за регулирование законов, по которым этот рынок живет. Пребывая в идеалистическом убеждении, что раз это ради народа, то не может быть ошибкой.
За первые 100 дней его президентства безработным было выделено полмиллиарда долларов. Не забывайте, что «тот» доллар был раз в 20 дороже нынешнего. В те же первые 100 дней Рузвельт сумел организовать общественные работы, создал для этого специальную Администрацию (Public Work Administration), которая развернула крупные проекты, дав занятость почти половине безработных. Сооружались мосты, дороги, аэропорты, школы, дамбы для защиты от наводнения, создавались трудовые лагеря для молодежи, где ребят, помимо работы, обеспечивали жильем и питанием.
Рузвельт сделал неимоверно много. Он создал систему пенсионного обеспечения в стране, ввел систему социального страхования. Его пенсионные программы до сих пор работают в Америке. За первый же год его президентства безработица снизилась вполовину. Чтобы стабилизировать денежную систему, был запрещен вывоз золота за границу, проведен конфискационный обмен золота на бумажные деньги, девальвация доллара. Болезненные меры для народа, каждую из них президент обсуждал с народом напрямую. Яркий оратор, он умел донести до людей все «за» и «против». Еженедельно вел задушевные «беседы у камина», американцы приклеивались к радиоприемникам послушать доверительные размышления президента, который не боялся делиться с ними даже сомнениями. Ему не откажешь в решительности, в огромной политической воле и человечности. Но еще больше он стремился предотвратить социальный взрыв, созревание тех самых «гроздьев гнева», которое описал Стейнбек.
В это время первые шаги делали два будущих противника Штатов — Советский Союз и фашистская Германия. За витринами этих стран еще никто не видел истинного лица обеих систем, репрессии в Союзе еще не приобрели массовых масштабов, а немецкие национал-социалисты еще не стали для человечества нацистами, отправлявшими в топки концлагерей миллионы. Кто мог сказать, в какую сторону шарахнутся отчаявшиеся американцы? Джозеф Кеннеди — отец будущего президента, вспоминая начало 1930-х в своей стране, говорил: «В те дни я чувствовал и говорил, что охотно расстался бы с половиной своего состояния, если бы был уверен, что сохраню в условиях закона и порядка вторую половину»[53].
Рузвельт предложил нации сделку. Название его политики «Нового курса» по-английски так и звучит: New Deal. Он заставит капиталистов считаться с нуждами американца, «забытого у подножия социальной лестницы», даст ему работу и социальные гарантии, а тот не будет коситься в сторону опасных «витрин» и читать дурные книжки. Звучало заманчиво. Вопрос о том, кто виноват в кризисе — рынок, капитал, ФРС, заигравшаяся в дешевые деньги, или граждане, не считавшие нужным обуздывать собственную жадность, — Рузвельт решил однозначно не в пользу капитала.
«Капитализм подвергся сейчас испытанию, и он его не выдержал… — заявлял он. — Экономическая система, при которой погоня за прибылью ведет к разрушению благосостояния народа, должна быть либо полностью отброшена, либо фундаментально изменена»[54]. Америка стала стремительно леветь.
Кстати, Рузвельт был не первым президентом США, стремившимся подправлять рынок государственным регулированием. В начале века этим занимались и Теодор Рузвельт, и Вудро Вильсон. И тем не менее лафа 1920-х годов настолько реабилитировала рыночные свободы в глазах американцев, что Рузвельту приходилось почти оправдываться: «Мало кто в Соединенных Штатах так же верит в систему частного предпринимательства, частной ответственности и частной выгоды, как я. Ни одно другое правительство в истории нашей страны не сделало для бизнеса больше, чем правительство Демократической партии начиная с 1933 года»[55].
Тем не менее его решительность пугала: он повторял, что народ забыт в политической философии правительства, заявляя, что обещанный «Новый курс» — «это не "просто политическая кампания. Это призыв к оружию"»[56]. К оружию для борьбы с кем? Многим казалось это «чистейшим коммунизмом». Обыватель же этими материями себе голову не забивал. Народ радовался, когда государство принялось регулировать уровни зарплаты, толпами валил в профсоюзы бороться за свои права, которые правительство поддерживало. Вера в президента крепла с каждым годом, и вскоре на выборах 1936 года он снова победил с блеском — еще бы, за годы его первого президентского срока производство выросло в полтора раза!
Весь свой первый срок FDR не только развертывал колоссальные социальные программы, но и поднимал промышленность и финансы страны. В 1932 году государство влило в экономику почти 5 млрд долларов. Одновременно президент увеличивал налоги на корпорации и состоятельных граждан. FDR назначил виновными в кризисе именно тех, кто создавал богатство, производил больше других и платил львиную долю налогов.
Законом Рузвельта о восстановлении промышленности была создана специальная Администрация восстановления. Ей было велено бороться с недобросовестной конкуренцией и «нездоровыми отношениями между бизнесом и работниками». На практике это значило, что предпринимателей заставляли заключать между собой «кодексы честной конкуренции», а «нечестной конкуренцией» объявлялись увольнения, необоснованное снижение заработной платы и такое же необоснованное увеличение цен на продукцию. Еще бы понять, что считать обоснованным… Конкуренция всегда предполагает коммерческую тайну, поиск скрытых способов повышения эффективности и снижения затрат, секретные ноу-хау в управлении. А тут капиталисту предписывают правила социалистического общежития.
Администрации дали право регулировать цены, директивно спускать предприятиям объемы производства, то есть фактически блокировать действие рыночных механизмов. Она заставляла капиталистов заключать договоры с профсоюзами, а как это, если договор — документ по определению добровольный? Это значит —предписать капиталистам подчиниться воле профсоюзов, а это уже нарушение равенства граждан перед законом. Надо быть большим идеалистом, чтобы считать, что такая политика совместима с верой «в систему частного предпринимательства, частной ответственности и частной выгоды».
В 1935 году Верховный суд США признал закон о восстановлении промышленности антиконституционным. Рузвельта остановили в полушаге от превращения экономики в плановую, хотя одновременно многие обвиняли президента в том, что он идет в сторону скорее фашизма, чем коммунизма: государство, дескать, становится корпоративным, крупный капитал хоть и заставили следовать новым правилам игры, но накопление и прибыли стали почти гарантированными…
История не ответила в полной мере на вопрос, сумел ли FDR преодолеть тот кризис, а тем более поставить заслон на пути будущих. Айн Рэнд, американский философ и писатель, убежденная в том, что любое вмешательство государства в законы рынка есть покушение на свободу человека, писала 30 лет спустя: «Если бы наши граждане дали себе труд разобраться в причинах краха, страна могла бы избежать большей части… бедствий. Депрессия затянулась на несколько трагических лет из-за тех же монстров, которые ее и породили: государственного регулирования и контроля»[57]. Рэнд считала, что «Новый курс» привел лишь к отключению естественных регуляторов экономики, лишив ее возможности самонастроиться. Штаты могли бы преодолеть депрессию гораздо полнее, если бы государство оставило рынок в покое. Капитал сам запустил бы новые механизмы развития, пригодные для нового времени. Так это или нет — вопрос оценок…
Факты же говорят о том, что во время второго президентского срока FDR в 1937-1938 годах производство и занятость снова упали, безработица подскочила до 19%. Одни винили в этом «Новый курс», вольницу, которую получили профсоюзы, атаки на бизнес. Другие, наоборот, считали, что Рузвельт, мол, недокрутил, недожал, свернул раньше времени дорогостоящие государственные программы поддержки. Сам президент обвинял во всем так называемые «шестьдесят семейств» — Генри Форда и других самых богатых людей Америки, подозревал крупный бизнес в саботаже собственных реформ и даже привлек к расследованию этого саботажа ФБР. Он называл крупный капитал олигархией, которая стремится создать «фашистскую Америку большого бизнеса», хотя многие обвиняли именно его в сращивании государства с крупнейшим бизнесом.
Трудно сказать, куда в конечном счете привел бы «Новый курс», потому что Рузвельта остановила война. Возникла необходимость в размещении военных заказов, выполнить которые могла только крупная промышленность. За 1933-1936 годы для борьбы с депрессией президент влил в экономику средства в объеме примерно 15% ВВП, но государственный долг увеличился несущественно. А в 1938-1940-е расходы уже не считали, и госдолг вырос до 40%. О контроле над крупным капиталом пришлось забыть и пойти к нему с протянутой рукой и распахнутыми дверями бюджета. Но это уже была совсем другая история, экономика войны и экономика развития — разные вещи.
Цена государственного насилия
Цена есть у всего, включая государственное регулирование экономики. Взять, например, профсоюзы, которые Рузвельт всячески поддерживал. Свободное объединение людей, желающих сообща отстаивать свои права. Профсоюзы торгуются с работодателями, могут организовать забастовку. А хозяева предприятий вольны решать, нести ли им убытки от простоя предприятия или же пойти на уступки и прибавить рабочим зарплату. Обе стороны конфликта свободны, рано или поздно возникнет согласие. Добровольное, а значит, обе стороны будут соблюдать договоренности.
Рузвельт так заботился об «американцах у подножия социальной лестницы», что законодательно, то есть принудительно,заставлял капиталистов считаться с профсоюзами. А почему? Это же признание того, что права рабочих выше прав капиталистов.
Это не такая абстракция, как может показаться. Вот конкретный пример. Во время кризиса 2009 года в российском городе Пикалево остановились три градообразующих предприятия, включая глиноземный завод, принадлежавший Олегу Дерипаске. Не было спроса на глинозем, раз строительство в стране остановилось. Все три предприятия несли убытки, хозяевам нечем было платить зарплату, да и незачем стало содержать прежнее количество рабочих при съежившихся объемах производства.
Протесты в Пикалеве приняли нешуточный масштаб. Бастующие перекрыли дорогу между Вологдой и Новой Ладогой, дело дошло до штурма здания городской администрации. Конфликт приехал разрешать сам тогдашний премьер. То бишь нынешний президент. И приехал он вовсе не для того, чтобы помочь сторонам договориться. Высек, как мальчишек, капиталистов — хозяев предприятий, а Дерипаску еще и высмеял: «Возьмите ручку и подпишите… Только ручку верните…» Угроза в доходчивой форме, что так и собственного предприятия можно лишиться. Людей тут же вернули на рабочие места, предприятия начали снабжать город электроэнергией и горячей водой.
А если бы премьер не применил розги? Удивительное неверие в то, что люди в состоянии сами договориться. Да, конфликт затянулся бы, а зимой без горячей воды никак, но именно в переговорах, в диалоге люди учатся понимать и друг друга, и само общественное устройство. Начинают думать, соразмерять свои аппетиты с реальными возможностями и с интересами других, ищут выход. А тут выскакивает добрый царь, и можно уже ничего не искать, есть приказ капиталистам: «Платить, снабжать водой, а на ваши убытки, господа, нам плевать». Что может усвоить обычный человек из таких простых решений? Только одно: государство умеет, оказывается, создавать деньги из воздуха! Самим думать, откуда они берутся, необязательно.
Каждый, кто рассчитывает на поддержку государства, должен ответить себе по крайней мере на один вопрос: за чей счет? Ответ «за счет государства» не засчитывается, у государства нет своих денег. У него есть только деньги граждан, их налоги. Государство может поддержать кого-то одного только за счет кого-то другого. Получается, что у тех, кого поддерживают, больше прав, чем у тех, кто платит за эту поддержку. Насколько это справедливо — это один вопрос, важнее другой — эффективно ли это?
Администрация Рузвельта, пусть из самых благих побуждений, своими действиями порождала общую атмосферу неуверенности. Никто не мог предугадать, какой закон или постановление свалится на голову завтра, куда повернет политический курс. А капитал может справиться со всем, кроме непредсказуемости. В итоге, по мнению Айн Рэнд, «все, чего смог добиться бизнес в рамках "Нового курса", окончательно развалилось к 1937 году. Более 10 млн безработных, деловая активность на уровне 1932 года, самого тяжелого периода Великой депрессии»[58].
Рэнд не может простить Рузвельту разрушительного воздействия его политики на сознание людей. Вся философия капитала основана на том, что только деньги мотивируют человека к труду, а капитал пробуждает все новые «дремлющие производительные силы» общества, как выразился Маркс. Рузвельт поставил эту философию под сомнение.
Напрямую связывать убеждения человека с его происхождением — примитивный подход. Но все-таки у того, кто растет и воспитывается в богатой семье, как-то больше уважения к деньгам, он больше склонен считать, что богатство общества складывается из личных состояний. Рузвельт вырос в аристократической семье, его отец владел наследственным имением, солидными пакетами акций в ряде угольных и транспортных компаний, мать также принадлежала к местной аристократии. Он знал языки, много путешествовал с родителями по Европе, учился в одной из лучших школ страны под Бостоном, окончил Гарвард, отправился в магистратуру в Колумбийский университет, потом работал на Уолл-стрит.
Тем не менее его политику можно назвать популистской. Его любовь к простому американцу, положим, понятна — он же был политиком, а у подножия социальной лестницы толпится гораздо больше людей, чем на ее верхних ступеньках. Но такое неприятие «своекорыстных капиталистов»! Гарвард с Колумбийкой явно плохо объяснили будущему президенту роль этих людей в движении общественного автомобиля.
Дьявол — в деталях
В те же годы «по другую сторону пруда» — так американцы и англичане называют Атлантический океан — жил и работал другой великий человек, ученый Джон Кейнс. Его теория навскидку крайне схожа с политикой Рузвельта. Настолько, что одни считают Рузвельта кейнсианцем, а другие — что Кейнс всего лишь обобщил в теории практику «Нового курса». Казалось бы, Кейнс должен был быть в восторге от того, что самая крупная мировая держава, Америка, на практике реализует его теорию государства и денег. Однако он не был в восторге…
В 1933 году Кейнс публикует в The New York Times открытое письмо Рузвельту. Выражая свое восхищение смелостью и размахом «Нового курса», Кейнс принимается поучать FDR. Хотя пишет, казалось бы, всего лишь о незначительных нюансах.
В России люди, принимающие судьбоносные для страны решения, гордятся тем, что мыслят масштабно. «Это уже техника, это не принципиально» — вот их подход. А Кейнс пишет первому лицу крупнейшей державы именно о технике, вполне недвусмысленно давая понять, как легко ненароком превратить иглу, штопающую дырки на ткани капитализма, в кувалду, которая способна все «до основания разрушить».
«Вы взяли на себя труд, господин президент, стать доверенным лицом всех тех, кто ищет, как устранить пороки нашего состояния, не взрывая общих рамок социальной системы. Ваш провал заставит людей разувериться в возможности перемен, ортодоксия (марксистская, конечно) и революционный подход возобладают. Если же вы добьетесь успеха, новые дерзкие методы будут внедряться повсюду и, возможно, наступит новая экономическая эра. Это достаточное основание, чтобы я позволил себе размышления о ваших реформах»[59] — так начинает Кейнс свое письмо президенту Америки. И тут же заявляет, что симпатизирующие Рузвельту мыслящие люди Англии, да и всей Европы, озадачены. Они носом — «а нос более благородный орган, чем мозги» — чуют: что-то не так. Может, у господина президента плохие советчики?
Достаточно наглое вступление для обращения к президенту. Но Кейнса это не смущает, он подчеркивает, что у Рузвельта не одна задача, как может показаться, а две. Первая — оздоровление экономики. Вторая — ее глубокое реформирование.
Для оздоровления необходимы быстрые ощутимые результаты. Для реформы — закладка основ на будущее. Но если реформы не приносят быстрого оздоровления, они вызывают разочарование.
Отсутствие результатов, пишет Кейнс, скомпрометирует саму цель реформ, «подорвет доверие бизнеса, ослабит его мотивацию действовать раньше, чем вы сумеете дать ему новые мотивы». К тому же «одновременное оздоровление и реформы перегружают бюрократическую машину (sic!), вам приходится думать одновременно о слишком многом …»[60]
Отвлечемся на минуту от Америки. Кейнс дает нам ключ к оценке российских реформ 1990-х годов. С тех пор россияне уже почувствовали вкус к частной собственности и рынку. Привыкли к тому, что могут сами продавать и покупать на рынке квартиры, обустраивая жизнь своих семей доступным для них образом. У них уже плохо укладывается в голове, как это государство замыслило снос пятиэтажек. Закон о реновации не менее антиконституционен, чем американский закон о восстановлении промышленности, нарушавший базовые права человека, к которым относится и право частной собственности, прописанное в российской Конституции. Вокруг процесса реновации разгорелась свара, люди защищают свое право собственности и тут же клянут реформы, которые им эту собственность дали.
Реформы девяностых, увы, обнулили сбережения российских граждан. Старики тащили в скупки все нажитое, чтобы прокормиться. За это Ельцина и младореформаторов проклинают уже почти 30 лет. Нужны были хоть небольшие достижения, насыщение рынка продуктами по вменяемым ценам, программа поэтапной, пусть частичной, компенсации утраченных сбережений. Недодумали, недокрутили, да и с деньгами обращались тогда наши кормчие весьма небрежно… Правительству «попросту говоря, приходилось думать одновременно о слишком многом». Нюансами пренебрегали.
Люди бедствовали и роптали все громче и, занятые своими невзгодами, проглядели, что страна-то развивалась. В экономике была конкуренция, пусть и с пятнами детских болезней, которые запомнились только как стрельба и бандитизм. Производство поднималось на дрожжах той самой приватизации, которую теперь клеймят. И в нулевых по инерции, заложенной в 1990-х, в экономике шли структурные реформы. Но вечно думать о «слишком многом» хлопотно. Новые кормчие потихоньку свертывали реформы. А потом и вовсе решили: раз народ так истосковался по порядку, объявим-ка мы, что свободный рынок — это вседозволенность. Доходчиво и популярно. И стали обкладывать рынок запретительными законами. Что ни заседание Думы, то опять что-то запрещают…
Как тут не вспомнить Айн Рэнд, которая считала, что только сам рынок и капитал способны вырулить, пусть через боль, на правильный путь и создать основу для развития страны. Ни Рэнд, ни Кейнса наши кормчие нынешнего века принимать в расчет не собирались. То ли порядок ходов в шахматной партии спутали, то ли приоритеты расставлялись кое-как…
Вот и Кейнс после девяти месяцев реформ Рузвельта усомнился, не спутан ли порядок в приоритетах политики президента. Отдачи от Администрации общественных работ не видно. Слишком спешили, не определив, какие именно виды работ не только дадут немедленную занятость, но и создадут платформу для роста эффективности и производительности. Железных дорог построили немало, а вот пересмотреть тарифы, чтобы эти дороги окупались, не потрудились.
Понятно, что цель антикризисной политики — увеличение производства и занятости. Для этого нужен спрос, и вот тут государство должно стать защитником денег, считал Кейнс. Надо побуждать людей больше тратить, поэтому в периоды спада государство должно вбрасывать в экономику дешевые деньги. Для этого можно и нужно увеличивать государственный долг и даже включать печатный станок. Только упаси вас господь, господин президент, одной рукой раздавать из казны кредиты и субсидии, а другой повышать налоги: вы окончательно задушите производство — в таком духе продолжает он свое послание.
«Замедление оздоровления этой осенью — предсказуемый результат провала администрации организовать значимый вброс денег за счет займов. В следующие шесть месяцев абсолютно все будет зависеть от того, создадите ли вы платформу для громадных расходов на ближайшее будущее. Вы слишком мало тратите, — пишет в своем письме Кейнс. — Это неудивительно: вы не решили, на что тратить, вы импровизируете»[61].
В отличие от Рузвельта Кейнс не был идеалистом. Не считал, что забота об общем благе оправдывает ошибки. Он призывал Рузвельта быть последовательным и лучше расставлять приоритеты, чтобы вместо побед не получить провалы.
Их личная встреча произошла двумя месяцами позже, в феврале 1934 года, и разочаровала обоих. Кейнс убедился, насколько Рузвельт слабо разбирается в экономике, а FDR счел, что он разговаривал не с экономистом, как он сам, а с математиком, оперирующим заумными понятиями.
Спор между великим реформатором и великим ученым, прикрытый уважением и полный скрытой неприязни, имеет много параллелей с теми коллизиями, которыми сопровождалось развитие России в последние 27 лет. Действительно, дьявол в деталях, в нюансах. Время простых решений прошло еще во времена Рузвельта и Кейнса. Впрочем, едва ли оно когда-либо было…
Он вырос очень умным…
Кейнс не был кабинетным ученым, он жил в постоянной схватке с жизнью, так ему на роду было написано. Бабушка твердила ему: «Ты должен вырасти очень умным, раз живешь в Кембридже».
Именно там Джон Кейнс родился. Отец был профессором, мама писателем. Там же и учился и многие годы с перерывами работал. Он заработал огромное состояние на бирже во время бума рубежа 1920-х годов и… все потерял. Взял кредит, создал собственный инвестиционный фонд, снова сделал за пару лет огромное состояние. После первого банкротства родилась одна из его шуток-афоризмов: «Здоровый банкир — увы! — не тот, кто предвидит опасность и избегает ее, а тот, кто идет ко дну по всем правилам, вместе со своими клиентами, так что никто не может быть к нему в претензии». Он бился сам за свои деньги, на собственной шкуре постигая законы накопления капитала, и прекрасно знал, откуда берется богатство. Что-то я не припоминаю ни одного из российских экономистов, кто хоть раз рискнул бы собственной копейкой и мог бы личным опытом обосновывать то, о чем берется судить…
В 1920-х годах Кейнсу сопутствовала фантастическая удача, и он, как и многие другие, полагал, что постоянный экономический рост органичен послевоенному капитализму. Тем больнее ему было второй раз потерять все состояние во время кризиса 1929 года, хотя он уже стал весьма искушенным финансистом. Всякий, кто видел толпы безработных, очереди за кружкой супа в Англии, Штатах или Европе, был убежден: капитал безнадежно болен, он не справляется с разрушительной силой собственных законов. Нужны новые инструменты, которые можно было бы встроить в этот организм, не разрушая его, но постоянно подправляя и ремонтируя.
Кейнс относился к учению Маркса как к «старью из прошлого века». Уже никто не сомневался, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Открытые Марксом законы казались самоочевидными, и все, включая самого Кейнса, пользовались ими вовсю. Марксизм же к тому времени полностью свели к Марксовой вере. В странах Атлантики утверждение Маркса о том, что «пролетариат нищает абсолютно», не работало, поскольку доходы рабочего класса росли. Кейнс не считал нужным рассуждать о том, как капитал учится разрешать свое самое глубокое противоречие — между собой и трудом. Вот разработать теорию, которая предотвратит кризисы, падение уровня жизни рабочего и разрушение общественного богатства, — задача, достойная великого ума, а все Марксовы абстракции, какое-то восхождение от них к конкретике — это все от лукавого.
Для него важнее психология человека. Она не играет роли только в обществах, которые построены на полном подчинении человека воле государства, как в СССР и Китае. В обществе же, основанном на свободных, добровольных отношениях, люди действуют сообразно своим ожиданиям и предпочтениям. Свобода — главное, что ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Доходы растут, но выясняется, что по мере их роста человек склонен все меньше тратить и побольше откладывать. Совокупный спрос — общая склонность людей тратить деньги — растет медленнее, чем производство товаров. Если не учитывать эту склонность человека и не поддерживать совокупный спрос, то вот вам и дорожка к очередному кризису. Преодолеть склонность человека к сбережению невозможно и не нужно, это свойство разумного человека. Но когда эта склонность тормозит экономику, на сцену должно выйти государство с новыми инструментами.
Один из них — рост государственного долга, его нельзя бояться. Придет подъем экономики, и государство сумеет расплатиться с долгами. Второй — не бояться печатать деньги: инфляция — меньшее зло, чем застой и падение производства. Долги и инфляция ведут, конечно, к обесценению денег, но, если повышение цен плавное и предсказуемое, это не такая уж беда.
А уж ставка процента — просто одновременно и кнут, и пряник в руках государства. Поднимать ее необходимо в периоды экономического бума, чтобы капиталисты не производили больше, чем люди готовы купить. А снижать — когда производство растет вяло и нужно подстегнуть капиталистов производить больше.
В периоды спада самое время разворачивать крупные государственные проекты. Строить железные дороги, хайвеи, стадионы, мосты… Всегда есть что подштопать в собственной стране. Чем втупую платить пособия по безработице, что в конечном итоге способствует безволию и бездействию, намного эффективнее организовать общественные работы, которые, помимо заработка, дают гражданам возможность сохранить социальный статус и достоинство. «Создавайте инфраструктуру за государственный счет, это лучше, чем вынужденная праздность миллионов людей», — писал он Рузвельту.
Так вроде же Рузвельт именно это и делал… За годы экономического подъема в казначействе накопилось много денег, а когда они начали таять, FDR принялся увеличивать государственный долг — все вроде правильно. Правда, Рузвельт тут же и поднимал налоги на корпорации и состоятельные слои населения, подрывая их стремление развивать производство. На это Кейнс открытым текстом пишет ему в письме: «Упаси вас, господин президент, трогать налоги».
Кейнс требовал от государства ювелирной точности в применении инструментов, которые он давал ему в руки. Только тогда они сложатся в систему тонкой настройки капиталистического организма. Он напичкал свой главный труд «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 год) огромным количеством математических выкладок. Выводил уравнения, показывающие, до какого предела можно поднимать и опускать ставки процента вкупе с наращиванием госдолга, как параллельно с этим определять пределы инфляции, чтобы ее оздоровительное действие не превратилось в разрушительное. Читать Кейнса еще труднее, чем Маркса.
Его ученик, лауреат Нобелевской премии Пол Самуэльсон через 12 лет поставил себе задачу сделать теорию своего учителя настольной книгой каждого — до такой степени он был убежден в практической ценности положений Кейнса. В 1948 году Самуэльсон пишет книгу «Экономика», которая выдержала уже 20 переизданий. По ней учились и учатся уже пять поколений студентов во всем мире. А вот по книге Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» учиться невозможно. «Это плохо написанная, плохо организованная книга… Она совершенно не годится для процесса обучения, — писал о ней Самуэльсон. — Она претенциозна, полемична и не слишком щедра на признание чужих заслуг… Кейнсианская система изложена так путано, будто сам автор плохо понимал ее суть… Взлеты интуиции и озарения переплетаются со скучной алгеброй, а двусмысленные определения неожиданно ведут к побочным линиям рассуждения…» Вслед за этим потоком критики Самуэльсон делает неожиданный вывод: «…Когда все это остается позади, мы находим анализ ясным и новым. Короче говоря, это работа гения»[62].
Кейнс знал, что его теория доступна только ученым. Он не стремился быть понятым всеми. Достаточно, если те, кто должен обустраивать общество, почерпнут из его работы хотя бы самое главное.
Словом, Кейнс был английским снобом до мозга костей. Его окружение — философствующая элита Кембриджа, жена — балерина из группы Дягилева, авангардная творческая личность «Мира искусства». Всю жизнь он был финансово независимым, несмотря на то, что дважды потерял все состояние на рынке ценных бумаг. Но тем ценнее был его капитал, что он заново его восстановил и увеличил. Кейнс был убежден в мощи своего разума, который видит сокрытое от глаз простых смертных, в своем праве и даже обязанности поучать и вразумлять. И даже «снисходя» к прозе жизни, к общению с политиками, например с президентом Америки, поучал их со всем свойственным английскому снобу высокомерием.
Много государства — еще не сильное государство
В 2008-2009 годах — всемирный экономический кризис. Лидеры крупнейших стран мира сочли, что он требует общих усилий, и тут же создали новый международный форум — группу G20, «Большую двадцатку». Ведь очевидно, что, если в одной из крупных стран зреет кризис, он перекинется на весь мир.
В те годы лидеры «двадцатки» собиралась чуть ли не каждый квартал, а уж министры финансов заседали беспрерывно. Между экономическими и финансовыми ведомствами разных стран летали письма, телефоны разрывались. Из этой глобальной суматохи мало что произросло. Во всяком случае не появилось ни новых теорий, ни новых инструментов международного регулирования мировой экономики. «А как же Евросоюз? — спросите вы. — Он-то весьма преуспел в обуздании кризиса в Европе, где все сыпалось, а еврозона дышала на ладан…» О Евросоюзе — чуть позже. Уж там-то точно не все так просто, как может показаться.
Во время того кризиса применялась главным образом именно кейнсианская классика — снижение ставок процента для оживления производства, рост государственного долга для увеличения спроса и вливания в ключевые отрасли экономики, в каждой стране — в свои. Кейнсианская теория встретила XXI век «на коне».
В России же все было, как всегда, немного по-другому. В ней не рушились банки, как в Европе, не ложились набок целые отрасли, в отличие, например, от автомобильной индустрии Америки. Не было долговых трагедий, как в Греции или чуть позже в Италии. Не прошел кризис тайфуном по нашей экономике — так, поштормило немного. Государственные российские мужи повторяли, что до нас докатилась волна кризиса из США, но мы с ней справились.
Это полуправда. Причиной того, что тайфун обернулся относительно управляемым штормом, была слабая интегрированность страны в мировую экономику. И тем не менее в тот шторм и предприятия, и банковскую систему еще как качало! До сих пор компании не вышли на те уровни прибыльности, которые имели в середине нулевых. Банки поменьше в кризис полегли-таки, их охапками скупали банки первого эшелона. А уж по людям тот кризис прошелся именно тайфуном. У них деньги кончились и больше уже не начинались.
В нулевых деньги возникали буквально из воздуха. Казалось, что это происходит благодаря бурному развитию экономики. Цены на российские акции и на недвижимость росли как на дрожжах, царила атмосфера экономического бума. Это было время, когда «можно было собрать в одни руки с пяток подмосковных заводиков — где в цехах уже шустро клепали компьютеры по китайским схемам, а по дворам еще сновали бродячие собаки, — нарядно и нехлопотно упаковать их в презентацию и, представив в виде высокотехнологичного концерна, легко собрать на лондонской бирже ярд»[63]. Топ-менеджеры корпораций получали пятизначные долларовые зарплаты, отдыхали летом на Лазурном Берегу, зимой катались на лыжах в Швейцарии, среднему классу было вполне по карману пару раз в год смотаться на пляжи Турции или Египта. Привычными стали горячие туры на Гавайи «всего за 10 тысяч долларов» и имидж-консультанты для заурядных менеджеров среднего звена. Зеленые выпускники институтов нагло требовали на собеседованиях пару-тройку тысяч долларов, корпоративный телефон и кредитную карту, начальники департаментов продаж получали больше, чем хозяева предприятий в Польше или Испании.
Только в том не было нашей заслуги. Это в остальном мире было слишком много денег. Международный капитал искал, куда вложиться, и воспринимал Россию, где еще действовала инерция реформ, как новый растущий рынок. Инвестиционные банкиры Европы легко давали русским кредиты, выводили их компании на размещение акций на биржах лондонского Сити. Из этих денег, которые текли в страну рекой, как раз и платили немыслимые зарплаты и бонусы, а российские компании набирали новых сотрудников. Все пребывали в иллюзии радужных перспектив. Страна богатела взаймы.
И вдруг осенью 2008 года поток денег иссяк — страны Атлантики бросились спасать собственные бизнесы. Их банки очнулись от эйфории, ужаснулись тому, какую кучу сомнительных кредитов они уже раздали, и принялись кардинально пересматривать управление рисками. Заемщики, которые еще вчера казались платежеспособными, в новых условиях на кредит рассчитывать не могли.
Давать деньги российскому государству теперь стало слишком рискованно. Ведь Россия в конфликте с Грузией, там наехали на нефтяную компанию ТНК-ВР, там разгорелась склока с международным металлургическим концерном «Мечел». В восприятии финансовых рынков страна из «растущей экономики» превратилась в «страну с нестабильной экономикой», ее кредитный рейтинг упал ниже плинтуса. Тут же утратили кредитную привлекательность и российские компании, и банки, которые вдобавок уже набрали долгов будь здоров. Вылезли наружу все слабые места российской экономики, на которые закрывали глаза, пока некуда было девать деньги. Финансовые рынки на Россию закрылись, и в стране все схлопнулось.
Инструменты борьбы с кризисом оказались вне контроля России. Пошли невозвраты кредитов, госбанки харчили банки помельче, становясь монополистами. Предприятия бросились резать расходы, пытались хоть как-то перекрутиться с обслуживанием уже набранных кредитов. Государство было готово помочь им в решении проблем только одним способом: скупкой их акций в обмен на кредиты. К слову сказать, не кажется ли вам, что это те же ненавистные вам залоговые аукционы 1995 года, только наоборот? Хотите денежек государства? Отдайте-ка ему ваши акции. Точно по Марксу: в кризис происходит концентрация капитала в руках крупняка. А самым крупным капиталистом в России остается государство. В годы того кризиса все государственные монстры — Газпром, Сбербанк, «Аэрофлот» — только укрепились, почти всех конкурентов помельче снесли.
В вопросе занятости государство вообще заняло интересную позицию: безработицы мы не допустим, но проблема это не наша, а ваша, господа капиталисты. Разбирайтесь с ней сами, а мы, если что, можем не только в Пикалево приехать, учтите… С тех пор безработица у нас скрытая — в виде мизерных зарплат, которые к тому же еще и постоянно задерживают.
Государство так задавило экономику, что само лишило себя инструментов ее оздоровления. Суть оздоровления рыночной экономики — найти ювелирные методы штопки дыр, добавив в рынок «щепотку государства». А у нас уже некуда добавлять государства, оно и так подмяло под себя рынок. Поэтому, как только заходит речь о реформах, тут же все сводится к одному вопросу: как именно государству распределять деньги и кого ими поддерживать. То есть не о том речь, как создавать, а о том, как делить.
Государственные мужи, как водится, не вынесли из того кризиса никаких уроков. В стране никакими реформами не пахнет. Экономику пытаются регулировать в основном запретами.
Уже упомянутая Айн Рэнд пишет о том, как еще в XVI веке во Франции политики решили поддерживать предпринимателя, только не знали как. Собрали фабрикантов, и министр финансов при короле Людовике XIV попросил у них совета. Чем помочь? Один из фабрикантов ответил: «Laissez nous faire!»[64] — «Дайте нам работать». Попросту — «Не мешайте!».
Не жалует Рэнд государственников, считая, что они только мешают капиталу создавать богатство общества, бесконечно споря о «частных, вырванных из контекста сиюминутных вопросах, никогда не допуская их обобщения, не упоминая об исходных принципах и конечных последствиях и тем самым обрекая своих последователей на своеобразное расщепление рассудка». Они нагоняют словесный туман, утаивая два важнейших факта: производство и благосостояние — это плоды человеческого разума, а государство — это всегда принуждение. Но человеческий мозг не может работать из-под палки[65].
Кейнс призывал Рузвельта не кошмарить крупных капиталистов, а поощрять их. «Вы можете делать с ними все, что угодно, —объяснял он, — если будете обращаться даже с самыми крупными из них не как с волками и тиграми, а как с домашними животными, хотя и плохо воспитанными и не так выдрессированными, как вам бы хотелось»[66]. Если с ними обращаться жестоко, рынок не поможет нести бремя нации. А вот для Айн Рэнд эти слова Кейнса звучат аморально: капиталисты несут бремя нации, а государство, видите ли, вольно их приручать или наказывать. Самых полезных членов общества превращают во вьючных животных!
Можно еще спорить, действительно ли государство тормозит развитие в странах Атлантики, но уж в России это медицинский факт. Кошмарить тут капиталистов — это само собой разумеется, и даже приручать их совершенно ни к чему — государство же сильнее. Самые поразительные истории — это истории человеческих ошибок. На ошибках Рузвельта поучиться не вышло, хоть нашего президента с ним часто сравнивают. Правда, не факт, что это комплимент. Да, внешняя политика Рузвельта отличалась гибкостью, реализмом и осторожностью и принесла ему заслуженную славу. Но что касается экономической сферы, то именно «американские горки» 1930 года, когда экономику Штатов бросало то в жар, то в озноб, скорее подтверждают мысль о том, что, если государства слишком много, оно становится слабым. Российское же государство, скрутив в бараний рог рынок и частный капитал, явно лишило себя экономического фундамента и держится на одном ручном управлении. А рыночная экономика уже не сложится сама собой, спонтанно, просто от того, что людям позволят менять свое зерно на холсты, а холсты — на сюртуки. Как и во времена Витте и Столыпина, в России сегодня снова надо запускать рыночный механизм с помощью реформ сверху. Осмыслить опыт 1990-х, доделать все, что не получилось тогда. Вместо этого наши модельеры общественного устройства мастерски нагоняют «словесный туман, расщепляющий рассудок». Ссылки на Кейнса, сравнения с Рузвельтом имеют мало смысла — не тот контекст. Российские мужи по-прежнему не в силах поступиться последней священной коровой, оставшейся от Великого строя, — мифом о том, что государства должно быть много.
Так проще. Ведь для реформ нужно общественное согласие, а в России у людей нет убежденности, что рынок — единственное устройство, при котором производятся деньги. Они с тоской смотрят телевизор, слушая разноголосицу государственных мужей и доморощенных экспертов… Сплотить своих граждан, чтобы нация видела будущее страны одинаково, — самая сложная задача.
Один из немногих, кому это удалось, — Людвиг Эрхард. Он создал капитал в собственной стране заново. Сумел сплотить народ, который поверил в его реформы, хотя начинал он даже не с нуля, а с минусовой отметки. Ведь речь идет о послевоенной, разрушенной, полностью деморализованной Германии.
Людвиг Эрхард: благосостояние для всех и цена компромиссов
Нулевые годы… Это не о России, которая пухла от денег в начале нынешнего века. У Германии были собственные «нулевые годы», когда страны вообще не существовало. На карте мира была территория. О ней говорили: «Это куча мусора, в которой копошатся 40 млн голодных немцев».
Территория из четырех оккупационных зон. Союзники — победители во Второй мировой считают, что государства на ней больше не должно появиться. Их цель — «уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира»[67].
В стране, которая стала «бывшей», ужасающая нищета. И страх… Страх еще не забытых бомбардировок, страх наказания всей нации за содеянное нацистами, всех немцев — непричастных, искалеченных, выживших, которых ненавидит весь мир. «Это было время, когда в Германии… на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в 12 лет — по паре ботинок, раз в 50 лет — по костюму… Только каждый пятый младенец мог быть завернут в собственные пеленки, и лишь каждый третий немец мог надеяться быть похороненным в собственном гробу»[68], — писал годы спустя Людвиг Эрхард, автор «немецкого чуда».
На чудо ему потребовался ничтожный срок — каких-то 15 лет. За эти годы Германия создала высокоразвитую экономику. Сравнялась с Америкой по уровню достатка населения, хотя на американскую землю за годы войны не ступила нога вражеского солдата, не упало ни единой бомбы, и она вышла из войны мощнейшей державой мира.
В сегодняшней Германии все партии объявляют себя «единственно верными последователями» Эрхарда, хотя их всех, кроме социал-демократов, и на свете-то не было в его время. Газеты пишут, что Людвиг Эрхард присутствует в бундестаге, как будто он по-прежнему депутат парламента.
При жизни же он больше сталкивался с сопротивлением, чем с любовью. Развивать страну союзники не собирались, наоборот, еще на Ялтинской конференции будущих победителей они решили, что потенциал расчлененной страны не должен превышать половины от довоенного — чтобы немцы даже не помышляли ни о каких реваншах. А когда из четырех оккупационных зон все же сложились аж сразу две страны, выяснилось, что немцы Западной Германии — ФРГ — хотят вовсе не борьбы за место под солнцем в рыночной конкуренции, которую предлагал им Эрхард. Они истосковались по справедливости и хотят социализма.
На протяжении всей своей политической жизни Эрхард должен был преодолевать сопротивление оппонентов. Хотя политиком он был скорее плохим: слишком прямолинеен, не умел бороться за власть и не очень-то ею дорожил. Он был технократом. Но его политика на каждом витке давала ощутимое улучшение жизни немецких семей, и этим он сплотил нацию. Несмотря на все различия во взглядах, часто казавшихся непримиримыми, народ не мог не признать, что из изгоя Европы страна превратилась в ее экономического лидера.
Ученый, ставший политиком
Сын мелкого торговца из Баварии, Людвиг Эрхард не мог иметь ни особых связей, ни доступа в истеблишмент. В отличие от Джона Кейнса, ему на роду было написано быть обычным. Он им и был… Мальчишкой попал на фронт в Первую мировую, был тяжело ранен и выжил чудом, перенеся семь сложнейших операций. После войны поступил в Нюрнбергский коммерческий колледж, затем работал в какой-то торговой конторе. Один брат умер в раннем детстве, другой пропал без вести на фронте. Зато старшая сестра Роза удачно вышла замуж за влиятельного человека — крупного промышленника Карла Гута. Людвиг Эрхард и понятия не имел тогда, какую роль замужество сестры сыграет в его судьбе.
Зато он быстро понял, что работа коммерсанта — не для него, и отправился в Университет Франкфурта. Там его учителем становится Франц Оппенгеймер, выдающийся немецкий социолог и экономист, с которым Эрхард был очень близок, пока Оппенгеймеру не пришлось эмигрировать в США, спасаясь от нацистов.
Тома написаны о том, какое именно влияние оказали на Эрхарда взгляды его учителя. Оппенгеймер видел в государстве не благо, а зло — в отличие от Кейнса, чьи взгляды в 1930-е годы разделяло большинство западного общества. Для Оппенгеймера государство — инструмент насилия. Более того, у него монополия на насилие, люди ему дали право начинать войны, наказывать за преступления, охранять частную собственность. У государства есть масса и других, часто совершенно лишних прав, которыми оно неизбежно злоупотребляет, отчего и становится злом.
Оппенгеймер размышлял об обществе с равными правами всех на частную собственность, в котором государство охраняло бы эти права, не вмешиваясь в экономику. Его главная книга «Государство», написанная еще в 1919 году, — философский труд, интеллектуальный поиск, призванный побудить людей думать и определять свои ценности. Ведь в конечном итоге жизненный выбор определяют не столько рациональные соображения, сколько именно ценности. Они не требуют доказательства, это предмет внутренних убеждений, но они всегда — явно или неявно — присутствуют в любой общественной теории и, уж конечно, в суждениях людей. Книга «Государство» стала крайне популярной, и, как всегда, каждый делал из нее собственные выводы. Например, Че Гевара то и дело ссылался на Оппенгеймера — нравилось ему, что буржуазный философ считает государство насилием. Прекрасное дополнение к «марксизму». У Гевары в ход шло все, что оправдывало его собственную страсть к насилию и диктаторству, приукрашенную флером революционной романтики.
Эрхард работал при университете, занимаясь чистой наукой, пока в 1942 году в его жизнь не вмешался муж сестры Карл Гут. В Третьем рейхе Гут занял пост исполнительного директора Reichindustrie — Имперской группы промышленности. А ее руководители, крупные промышленники, были людьми дальновидными.
Они организовали небольшой научный центр для анализа экономики страны и определения контуров новой политики страны на случай поражения Германии в войне. Во главе него и поставили Эрхарда. Анализируя экономическую политику нацистов, тот увидел поразительную нерациональность командно-административного хозяйства страны и его поразительное сходство с экономикой СССР. В фашистской Германии, в отличие от СССР, оставалась частная собственность, но промышленники могли работать только по заказам государства, которое распределяло средства, устанавливало цены, диктовало ассортимент продукции для каждого концерна, оставляя крупным корпорациям весьма и весьма солидную прибыль. Кстати, за схожесть многих мер «Нового курса» с таким устройством FDR и упрекали в том, что он строит фашистскую Америку.
Вовсе не средний класс мелких буржуа и лавочников стал в нацистской Германии опорой режима, как принято считать. Их-то быстро списали со счетов. Опорой нацистского режима стал именно крупный корпоративный капитал. Партийные бонзы, крупнейший бизнес и генералы образовали треугольник экономической власти в стране. Государственно-монополистический капитализм заменил рынок детальными планами, которые были подчинены одной задаче — подготовке к войне.
Эрхард копался в фактах, цифрах, поражаясь неэффективности системы. В планах, разработанных людьми, всегда есть ошибки и предвзятые допущения. Директивные поставки всегда сопряжены с потерями: в одних местах — простои, в других — затоваривание. Человек не может превзойти рынок в эффективности распределения денег, труда и товаров, а скованный директивами капитал не способен следовать своим естественным законам. Годы работы в аналитическом центре на всю жизнь сделали Эрхарда убежденным сторонником свободы конкуренции и торговли.
Осенью 1945 года союзники назначили его министром экономики Баварии. Всего за 14 месяцев он восстановил там частную собственность, создал основные земельные институты — кадастр, реестр, технические службы, запустил свободную куплю-продажу земли… Но эта рутинная работа его тяготит, не хватает простора для реализации планов, которые он вынашивал в секретном центре. «…Чтобы начать серьезную экономическую политику, нужна возможность проводить ее на территории всей Германии, имея при этом в виду, что конечной целью является интеграция Германии в экономику Европы и всего свободного мира»[69], — написал он двенадцать лет спустя.
С середины 1930-х основой экономики Германии было исключительно производство вооружения и необходимого для него металла и топлива. Не для рынка, ведь все потребляло государство. А значит, главным источником финансирования мог быть только печатный станок. Десять лет такого хозяйства — и полная разруха, тем более что война уничтожила транспортную систему страны начисто. Экономика мертва, распределительная система стала не нужна — распределять уже нечего. За рейхсмарки никто ничего не продает, население в городах пытается кормиться с собственных огородов, как ленинградцы в блокаду. Ездят по деревням, выменивая одежду и городскую утварь на еду.
Союзники собирались и дальше выжимать все возможное из сложившейся системы. Со временем стоит подумать, какие производства поддерживать для умеренного роста производства, но пока задача — не допустить массового голода. В стране все по карточкам, зарплаты фиксированные, платят их в рейхсмарках, которые ничего не стоят. Да и сами немцы ждут от властей только справедливого распределения продуктов, не помышляя о большем. Ведь они — побежденная нация, изгои без будущего.
Осенью 1946 года между четырьмя странами-победительницами начал назревать неизбежный раздрай. СССР останавливает поставки продовольствия из своей зоны в три западные. В ответ генерал Люсиус Клей, глава администрации американской зоны, останавливает поставки оборудования с заводов Рура в восточную часть. Штаты и Великобритания объединяют свои зоны в одну, назвав ее Бизонией. Франция, которая контролирует часть юго-западных земель, пока отказывается к ним присоединиться, отчего кризис управления четырехзональной страной только нарастает.
Эрхарда назначают начальником управления экономики Бизонии. Это не та должность, где можно принимать решения, но он уже задался целью обеспечить перезапуск всей экономики Западной Германии. Первый шаг — срочная денежная реформа. «Глупости, — сказали власти Бизонии, — новые деньги тут же обесценятся, как и старые, раз производство разрушено». Это действительно был реальный риск, но и единственный шанс реанимировать убитый рынок — за фантики никто работать не будет. Сначала деньги, потом, может быть, все остальное. Но никак не наоборот.
После войны многим странам приходится проводить денежную реформу. Нехватка товаров рождает дикую инфляцию, на ценниках каждый день растут нули. Задача реформы — убрать «навес» денег, привести их объем в соответствие с товарной массой, чтобы цены стали регулятором производства. Формально все сводится к простой деноминации: например, в 1947 и 1961 годах в СССР поменяли деньги на новые купюры в отношении 1:10, а в 1998 году — в отношении 1:1000. И тем не менее практически всегда по новому номиналу меняются лишь зарплаты и часть вкладов, не превышающих установленный минимум. Другая часть сбережений при пересчете в новые деньги уменьшается, скажем, на четверть или на треть. А сбережения, превышающие и второй предел, уменьшаются вполовину, а то и в разы. Так что денежная реформа — конфискационная, болезненная мера.
Это все понимали, оттого оккупационные власти и сопротивлялись. Но Эрхарду нужно было создать новые пропорции экономики, дать населению стимул трудиться, а капиталистам — производить и вкладывать. Он требовал еще и снижения налогов, чтобы стимулировать вложения. Немедленно, одновременно с обменом денег. Об этом союзники и слышать не хотели, опасаясь, что не справятся с бюджетным дефицитом. А просить вливаний в экономику Германии у правительств своих стран? Чтобы победители платили побежденному?
Эрхард настаивал на полном демонтаже «обанкротившейся, коррумпированной системы централизованного хозяйства, основанной на принуждении». Нужен узаконенный свободный порядок, основанный на добросовестной конкуренции, частной инициативе и индивидуальной ответственности[70]. У него в голове уже сложился весь комплекс реформ.
Власти Бизонии сомневались, все еще делая ставку на «управление дефицитом». Они опасались, что отмена контроля над ценами и обмен денег могут «так ограничить спрос, что принудительная экономика станет бесполезной»[71], а рыночные механизмы сметут остатки порядка и выйдут из-под контроля. Эрхарду приходилось каждый день выдерживать битвы с военными властями в атмосфере военного времени, когда неповиновение в лучшем случае могло повлечь отстранение от должности.
Победители и побежденные
Легенды возникают с необыкновенной легкостью. Масса людей убеждена со школы, что Германии помог подняться «план Маршалла». Дескать, Америка буквально накачивала побежденную страну деньгами, стремясь создать противовес ГДР и остальному блоку стран социалистического лагеря. Чистой воды выдумки.
Во-первых, вливания извне никогда и нигде не обеспечивали подъема и развития в принципе — они могут служить лишь подспорьем для реформ, которые проводит сама страна. Во-вторых, победившие страны Европы получили от Штатов намного больше: Великобритания — 2,8 млрд, Франция — 2,5 млрд долларов. Германии досталось 1,3 млрд. И хотя тогдашний доллар был примерно в 20 раз дороже нынешнего, это сравнимо с годовой прибылью Роснефти и в разы меньше всех нефтяных доходов сегодняшней России. Только у нас почему-то никакого чуда не происходит…
Эрхард решал задачи во сто крат сложнее, чем даже Рузвельт: в Штатах речь шла о лечении экономики, пусть тяжелобольной, но работающей. Кейнс настаивал: господин президент, не забудьте, оздоровление без реформ невозможно, а если и произойдет, то ненадолго. И тем не менее в Америке и в годы Депрессии существовал конкурентный рынок. Рузвельт был убежден, что его реформы только укрепят «честную» конкуренцию, и, кстати, для восстановления его пропорций он тоже провел денежную реформу.
А в Германии рынок умер. В стране процветал бартер, предприятия вели двойную бухгалтерию. Нельзя было подсчитать убытки или прибыль в отсутствие настоящих денег и настоящих цен. Банкротств тоже не было, администрация распределяла заказы и сама занималась снабжением сырьем. Налоги были крайне высокие, но платили их бумажками. Когда бумажек не хватало, произвольно придумывали новые сборы. Самым одиозным стал введенный во французской зоне сбор с продажи табака.
Военным властям трех западных зон было не до реформ. Конфликт с СССР обострялся, Францию пришлось долго уламывать присоединиться к англосаксонскому союзу, в итоге вместо Бизонии возникает Тризония. В своей зоне СССР уже готовит почву для образования социалистического государства-сателлита. Уже ясно, что декларации, закрепленные в Потсдамском соглашении, на практике не работают: невозможно управлять территорией, в которой четыре страны заняты только скандальными переговорами.
А тут какой-то начальник управления экономики пристает с денежной и налоговой реформами… Эрхард упорствует: надо одновременно провести налоговую реформу, выпустить новые марки, отменить и контроль над ценами, и карточки. Нужен запуск полноценного рынка и механизмов конкуренции. Скрепя сердце власти соглашаются наконец пойти на денежную реформу и отменить контроль над ценами. Но за высокие налоги стоят насмерть: нельзя допустить снижения бюджетных поступлений. А Эрхард упорно бьется за низкие налоги. Ведь союзники больше всего опасались, что новая марка может обесцениться; так именно это и произойдет, доказывал он, если высокие налоги станут тормозить рост производства. С цифрами в руках Эрхард сумел уже к тому времени заручиться поддержкой собственной партии — Христианского демократического союза (ХДС). Под его влиянием она стала единственной политической силой, отстаивавшей рынок. Теперь снова с цифрами в руках он доказывал властям Тризонии, что поступление налогов в бюджет действительно на какой-то период снизится. Но если дать производителям одновременно и реальные деньги, и низкую налоговую шкалу, это станет огромным импульсом роста производства. Сопутствующий ему рост общего объема налогов в считаные месяцы перекроет временные потери. Практически в ультимативной форме он заявляет, что его налоговая шкала будет введена одновременно с обменом денег. Делает он это ночью накануне объявления денежной реформы, когда грузовики уже развозят новые купюры по банкам западных земель. Той же ночью 21 июня 1948 года рейхсмарки объявлены недействительными, введены новые деньги — дойчмарки.
Каждый житель получил на руки 60 новых марок. Пенсии, заработная и квартирная плата впредь подлежали выплате в прежних размерах, уже в новых марках. На них можно было обменять половину сбережений в отношении 1:10, а другую половину — в отношении 1:20. Иными словами, государство конфисковало будь здоров какую часть накоплений немцев. Реформа цен, которая вступила в силу через три дня после денежной реформы, отменила «принудительное хозяйство» (Zwangswirtschaft) — основу экономического порядка в нацистской Германии, включая контроль над ценами и административное распределение ресурсов. Часть денежных обязательств предприятий списали, остальную уменьшили в 10 раз.
СССР счел эту реформу отказом от Потсдамского соглашения. В сущности, так оно и было: западные союзники оказались вынуждены признать, что принудительное нормирование и распределиловка — остатки экономики военного времени, на которых ничего не построить. Советский Союз видел это, естественно, по-другому: в Западной Германии возрождают капитализм. Неделей позже СССР устанавливает блокаду трех западных секторов Берлина — они окружены советской зоной, границы с Западной Германией у них нет. Все наземные и речные поставки из Тризонии в Западный Берлин прекращены, три сектора города лишаются топлива и продовольствия, прекращается подача электроэнергии.
Люсиус Клей, теперь глава администрации Тризонии, добивается решения главы ВВС США о создании Luftbrücke, воздушного моста. По воздушному коридору шириной 32 километра, которым пользовались только самолеты западных союзников, в Западный Берлин каждый день перебрасывают по 750 тонн грузов, но городу этого мало. Тщательной диспетчеризацией сумели увеличить пропускную способность коридора, и в июле самолеты союзников садились в берлинском аэропорту Темпельхоф уже ежеминутно, перевозя 1200 тонн в день. Везли не только продукты — сухое молоко, кофе, муку, консервы, — но и медикаменты, бензин, уголь… И так почти год.
Блокада Западного Берлина стала последней каплей в распрях между Тризонией и Советами. В мае 1949 года Тризония превращается в Федеративную Республику Германия с собственным правительством и парламентом — бундестагом. Во главе страны — канцлер Конрад Аденауэр, еще один уникальный человек, политик со стальной волей, жесткий и одновременно гибкий. Он противостоял нацистскому режиму все годы его существования, пережил несколько арестов гестапо, но Гитлер не решился его уничтожить, настолько он был популярен в народе еще с начала 1930-х годов. Аденауэра называли Der Alte — «старик», «хозяин», «глава семейства».
Канцлер назначает Эрхарда министром экономики, открывая ему простор для дальнейших реформ. Они с Аденауэром принадлежат к одной партии — христианских демократов, но между ними нет полного единства. Нет единства и среди простых немцев в том, какой они хотят видеть свою страну. Эрхарду было легче убеждать военную администрацию союзников — тем более что генерал Клей странным образом благоволил к нему. Теперь ему надо убеждать и собственного канцлера, и парламент.
Материализация чуда
Хотя христианские демократы и победили на первых в истории ФРГ выборах, их соперник, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), едва ли была менее влиятельна. Слишком тяжким был исторический опыт нации, чтобы сознание большинства немцев склонялось к свободе рынка и простору для капитала. После Первой мировой войны демократы Веймарской республики только-только сумели поставить экономику на ноги ко второй половине 1920-х годов, и тут же кризис — Великая депрессия, нищета, разочарование в рынке. В 1930-е — жестко распределительная нацистская система государственно-монополистического капитализма. Профсоюзы и любые формы самоорганизации рабочих запрещены. Средний класс чувствует, что его предал фюрер, за которого он голосовал в 1933-м. Экономическая власть партийных бонз, генералов и корпоративного капитала безгранична.
Немцы отрицали капитализм по образу и подобию фашистской Германии, но и свобода капитала американского образца их не привлекала. Им требовалась социальная гармония, государство, которое не только охраняет их свободу, но и обеспечивает справедливость и равенство. Они поддержали на выборах рыночников, потому что уже в первую неделю после обмена старых марок на новые полки магазинов заполнились. Выяснилось, что где-то у кого-то припрятаны товары. Открылись портняжные и обувные цеха, ремесленные мастерские. Съежился, а потом и исчез черный рынок. Стало ясно, что и промышленность была в не столь кошмарном состоянии, как представлялось. Еще с конца 1944 года большинство предприятий создавали запасы сырья с прицелом на будущее, Эрхард не ошибался в своих расчетах: при фиксированных ценах их не пускали в ход. Только увидев свободные цены, поняв, что деньги стали реальными, производители принялись наращивать производство. За новые марки немцы были готовы работать по 17 часов в день, лишь бы выбраться из нищеты. На территорию ФРГ хлынул поток беженцев из Восточной Германии — тут была работа, тут рождалась надежда на достаток.
Начался подъем. Не было «нехватки эффективного спроса» — немецкий потребитель так изголодался, что ему хотелось всего. Отрасли, производившие товары для населения, давали огромный импульс тяжелой промышленности, банки принялись вкладывать новые марки в кредиты для реконструкции автобанов и железных дорог. Налоги из нулей на бумажках превратились в осязаемые материальные ресурсы для управления. Государство теперь могло позволить себе поддерживать граждан: из налогооблагаемой базы разрешили вычитать расходы на страхование и на строительство жилья. Беженцы с востока могли вычитать и стоимость товаров первой необходимости — скромное возмещение ущерба, нанесенного войной. Незаслуженно забыто имя соратника Эрхарда — начальника финансового управления Хартмана, он не меньше своего министра бился за низкую налоговую шкалу и может считаться соавтором «немецкого чуда».
Как и ожидалось, новая марка все-таки стала обесцениваться. Эрхарда подвергли уничтожающей критике, но он не собирался приносить убеждения в жертву политическому признанию. Существенно позже, в 1957 году он объяснял в своей книге «Благосостояние для всех»: «После реформы казалось, что наша экономика столкнулась с такой готовностью покупателя к потреблению, которая, казалось, никогда не кончится, — царило поистине безграничное желание восстановить утраченное… Маятник цен тогда повсюду нарушил границы нравственного и допустимого. Но скоро наступило время, когда конкуренция заставила цены вернуться в нормальное состояние — а именно к тому, которое обеспечивает наилучшее взаимоотношение между заработками и ценами, между нормальным доходом и уровнем цен»[72]. Попросту говоря — восстановилось рыночное равновесие.
В магазинах появились продукты, на зарплаты стало можно жить, но народ все равно не был доволен. Сыпались упреки, что денежная реформа оказалась конфискацией, что сбережения мелких вкладчиков и крупные состояния уравняли. Стрелы критики летели, конечно, в Людвига Эрхарда. И соратники по партии, и сам канцлер ставили ему в вину уменьшение долгов крупных концернов: лучше бы меньше конфисковали у простых людей. Критиковали его и за налоговую реформу — общий объем налогов снизился-таки довольно ощутимо, на треть.
Введение рыночного хозяйства — именно введение, жесткое и административное — вызвало волну банкротств и увольнений. Пока рейхсмарка была фантиком, предприятиям было почти безразлично, сколько нанимать рабочих и сколько им платить. А настоящие-то деньги требуют счета. Хотя взамен предприниматели получили стимул к переоснащению производства, в 1950 году снова начался спад производства, подскочил уровень безработицы. Радость по поводу полных прилавков сменилась разочарованием такой силы, что две трети населения мечтало о том, чтобы правительство вернуло систему государственного контроля над ценами. Министра экономики критиковали уже все, кто только мог.
Эрхард же объяснял парламенту: «Или мы потеряем нервы, поддадимся злобной критике, и тогда мы снова окажемся в состоянии рабства. Тогда немцы снова потеряют свободу, которую мы им столь счастливым образом вернули, тогда мы снова вернемся к централизованному экономическому планированию, которое постепенно, но неотвратимо приведет нас к принудительной хозяйственной системе… и, наконец, к тоталитаризму»[73].
А перед глазами у западных немцев — только что образовавшаяся Германская Демократическая Республика. Советский Союз прикладывал все силы, чтобы там шел экономический рост, его темпы были вполне сравнимы с ростом экономики Западной Германии, только в ГДР не росли цены и не было безработицы. Западные немцы требовали, чтобы у них было не хуже.
Короче, нельзя сказать, что немецкий автомобиль, который Эрхард построил буквально за четыре-пять лет, сразу уверенно покатил по автобану. Лишь к рубежу 1950-1960-х народ поверил в то, что реформы, которые министр экономики пробивал с нечеловеческим упорством, действительно сложились в чудо.
Деньги нужны не меньше справедливости
Эрхард не мог не считаться с социалистическими настроениями немецкого общества. Да и в остальной Западной Европе после Второй мировой они были сильны. Нельзя было не признать, что СССР, который вынес главное бремя войны, сумел за считаные годы восстановить разрушенную европейскую часть страны. Нельзя было не видеть, что в советские города вернулось изобилие, о цене которого на Западе никто знать не мог. Нельзя было отрицать подъем в странах соцлагеря: экономическое — а фактически и политическое — объединение, к которому Европа шла полвека, а Восточный блок — меньше пятилетки, дало импульс ускоренному восстановлению экономики. В Восточной Европе отсутствовала безработица и были бесплатные медицина и образование. Глядя на восток своего континента, население его западной части требовало от собственных правительств взять от социализма «все лучшее». Во всех западноевропейских странах усиливалось влияние государства — в основном в рамках кейнсианской теории. Везде граждане требовали от государства активной социальной поддержки и справедливого перераспределения национального дохода. И хотя социализма — или коммунизма — à la russe на Западе не хотел никто, постоянное стремление совместить рыночное и плановое начала в экономике никак не ускоряло развитие, скорее наоборот. Особенно ярко это проявилось в Великобритании, как мы увидим в очерке о Маргарет Тэтчер.
Что же касается Германии, то там не забыли Франца Оппенгеймера, который пытался сконструировать гибрид капиталистического и социалистического начал. В 1950-х складывается фрайбургская школа — группа ученых, называвших себя сторонниками ордолиберализма. Чисто немецкая затея — государство должно создать и охранять либеральный порядок, Ordnung. Но сам либеральный порядок — частная собственность и свобода рынка — должен оставаться основой системы.
Самым видным представителем ордолибералов был экономист Вальтер Ойкен. По части методологии он следовал Марксу: не строил уравнения, как Кейнс, а объяснял, каким образом абстрактное превращается в конкретное. Каждому человеку кажется, что он живет в уникальной стране в неповторимое время. Сегодня все не так, как было когда-то, тем более в других странах. Сила теории — в умении поставить любое конкретное «сегодня» в контекст абстрактных понятий, которые неподвластны переменам и составляют основу общества. Законы развития капитала, которые открыл Маркс, действительно работают, это уже давно всем ясно. А вот противоречие между трудом и капиталом только Марксу казалось безысходным. Государство, охраняя Ordnung, должно следить, чтобы стоимость рабочей силы росла вместе с производительностью труда. Капиталисты же должны добровольно разделить с государством заботу о рабочих. Брать на себя часть расходов по страхованию и социальному обеспечению собственных сотрудников. Тогда не придется клясть государство за высокие налоги.
К середине XX века главное противоречие капитала, объявленное Марксом неразрешимым, переродилось в противоречие между рыночной свободой и справедливым социальным порядком. И каждая из стран Атлантики пыталась и до сих пор пытается его решать по-своему.
Рыночная свобода толкает людей соревноваться в успехе, объективно ведя к росту неравенства. Маятник идет в сторону эффективной экономики. Но эффективность быстро становится привычной, и люди начинают возмущаться неравенством. Маятник идет в другую сторону — государство поднимает минимум зарплаты, повышает налоги на преуспевающих. То есть перераспределяет богатство в пользу бедных. Протекционистскими мерами защищает своих производителей от мировой конкуренции, вводит новые формы контроля и запретов. В результате эти действия глушат конкуренцию, тормозят накопление капитала, а вслед за этим — и экономический рост. Люди спохватываются и вспоминают, что рост капитала дает им рабочие места и более высокие зарплаты. Да и вообще они устали от высоких налогов! Так и качается маятник, считаясь с требованиями граждан. Правда, те исправно ходят на выборы…
Вальтер Ойкен стремится найти способ обеспечить одновременно и свободу конкуренции, и справедливый социальный порядок. Государство не должно вмешиваться в сам процесс производства — это искажает действия экономических законов. Оно должно только создавать и охранять справедливые институты, которые сами регулируют распределение прибыли и следят за чистотой конкуренции. Обеспечивать равенство возможностей. Фрайбургская школа дала этому теоретическому гибриду капитализма и социализма звонкое название «социальная рыночная экономика». К «справедливым институтам» причислены и профсоюзы, и ассоциации производителей, и кооперация, и масса других форм самоорганизации граждан.
В 1957 году появляется книга Эрхарда «Благосостояние для всех», которая по сей день почитается в Германии как экономическая библия. В ней несложно вычитать между строк, что Эрхард считает понятие «социальной рыночной экономики» тавтологией: для него рыночная экономика социальна по определению. Она уже потому ориентирована на человека, что более производительна, чем плановая. Она «сама из себя» (формулировка Эрхарда) дает людям больше денег: создает рабочие места и позволяет расти зарплатам.
Эрхард убежден, что государству не нужно по второму разу распределять национальный доход с помощью налогов. «Это было бы гротескной ситуацией, если бы сначала все платили налоги, а затем вставали в очередь, чтобы на обеспечение своего существования получить обратно от государства собственные средства», — писал он[74]. Поддерживать стоит лишь старых, слабых и больных, которые не могут работать.
Короче, «социальную рыночную экономику» можно трактовать по-разному, чем и заняты сегодня в Германии все партии. При этом ее отцом считают именно Эрхарда. Еще один пример того, как любят люди — и не только в России — размахивать понятиями, не вникая толком, что стоит за ярлыками «марксизм», «кейнсианство», «либерализм».
На самом деле Эрхард не отступал от принципов свободного рынка и конкуренции, стремился дать всем равные права и возможности находить свой путь к деньгам. Это не только самые эффективные, но и самые нравственные принципы. Государство не опекун и не касса, любил повторять он, все, на что оно способно, — это «запустить руку в карман соседа». Хоть и в другой упаковке, но в сущности то же, что говорит и Айн Рэнд.
Движение к этой цели было непростым. В начале 1950-х годов пришел спад производства, бюджет снова оказался в дефиците, пришлось поднять налоги до 32%. Правительство предложило предприятиям производить товары первой необходимости по адекватным ценам, а взамен давало гарантии полной загрузки мощностей и приоритетное обеспечение сырьем. Для Эрхарда это были вынужденные меры.
Он ориентировался на перспективу. В 1953 году выходит его книга «Возвращение Германии на мировой рынок». Тогда это казалось фантастикой — и не факт, что научной. В стране не было конкурентоспособных отраслей, ей нечего было предложить мировому рынку. Но вечно поддерживать производителя Эрхард не собирался. В своей книге он объяснял преимущества свободной торговли, доказывал, что немецким компаниям придется выйти на простор конкуренции. Он маневрировал налоговыми инструментами, осторожно сдерживая конкурирующий импорт, поощряя экспорт и инвестиции в технологически передовые отрасли. Постепенно складывался новый профиль немецкой промышленности — Германии на роду было написано стать лидером в производстве высокоточной техники и новых технологий. За 10 лет Западная Германия вышла на довоенный уровень производства, а еще через пять лет завоевала европейский рынок точного машиностроении, высоких технологий, автомобилестроения и строительной техники.
Потребовалось 15 лет, чтобы немцы поверили, что страна идет к «благосостоянию для всех». Несмотря даже на то, что они оставались бедной нацией: их уровень жизни был ниже среднеевропейского. В 1963 году Эрхард сменил Аденауэра на посту канцлера… Ненадолго, всего на три года. Как выяснилось, «благосостояние для всех» не все понимали одинаково.
Кажется, что Эрхард и сделал-то не так много. Его имя связывается прежде всего именно с денежной и налоговой реформами периода оккупации. Но это был фундамент. Следующим шагом стала отмена контроля над ценами и прекращение государственного распределения любых товаров — от топлива и руды до ширпотреба. «Честная конкуренция» тоже кажется слоганом… Или диктатом государства в ценообразовании и уровнях прибыли, как это пытался делать Рузвельт. А Эрхард «всего-навсего» добился принятия закона, по которому предприятия с долей рынка 30% платили существенно более высокие налоги, с долей рынка 45% — еще выше, и произошла естественная самоликвидация монополий. Он поддерживал — в том числе и дотациями — становление и развитие малых и средних предприятий. Mittelstand, как называют этот класс предприятий, превратился в основу экономики страны, а конкуренцию в массе сравнительно небольших предприятий уже сдержать невозможно. И сегодня в Германии на долю бизнесов со штатом до 700 человек приходится более 90% предприятий, на них занято 70% трудоспособного населения, они обеспечивают 45% бюджетных доходов.
В сегодняшней Германии Эрхарда считают сторонником «социального рыночного хозяйства» — он же написал книгу «Благосостояние для всех». Но, по сути, именно в ней Эрхард доказывает, что благосостояние создается только эффективностью экономики. «Лучшей социальной политикой является хорошая экономическая политика», — однажды заявил он, вызвав негодование социал-демократов. Можно сказать и проще: лучшая социальная политика — это хорошо оплачиваемые рабочие места, а их может обеспечить только конкуренция капиталов за рабочих. Сильное государство не раздает льготы направо и налево, оно создает условия для честного соревнования в успехе. На это необходимо общественное согласие.
О нем в спешке забыли реформаторы России в 1990-х. Согласие общества на равенство только в правах, свобода как разделяемая всеми ценность не могут возникнуть исключительно из либерализации цен и приватизации. Нужно убедить людей, что равенство — это не уравниловка, которая убивает развитие, рано или поздно вырождаясь в одинаковую бедность для всех. Люди смогут поверить в это, только если с самого начала рыночных реформ будут чувствовать от реформ ощутимые улучшения. Эрхард никогда об этом не забывал.
«Социальную» сторону рынка он видел прежде всего в признании рабочих социальными партнерами капиталистов. В добровольных взносах капиталистов в пенсионные и страховые фонды — ради того, чтобы успешнее конкурировать за рабочую силу. В продаже акций компаний ее работникам — ради той же цели. Государство же только охраняло такое партнерство: компании могли вычитать из прибыли доходы от продаж акций сотрудникам компании, а доходы рабочих не облагались налогом, если они потрачены на покупку акций своего предприятия. Прямая поддержка из бюджета ограничивалась только помощью нетрудоспособным, а пособие по безработице было минимальным.
Противник активной социальной политики, Эрхард понимал, что без каких-то ее элементов не обойтись — это была бы проигрышная для его партии позиция. Еще при Аденауэре правительство вводит систему субсидирования расходов на жилье и контроля над ставками арендной платы. И Эрхард делает ставку именно на доступное жилье! Немцев это убедит в социальной направленности его политики, а ущерб для свободной рыночной экономики от такой формы контроля над рынком будет наименьшим.
Регулирование цен на аренду жилья прижилось в ФРГ настолько, что до сегодняшнего дня собственная квартира не является такой ценностью для немцев, как для жителей большинства остальных стран, включая Россию. Только четверть немцев имеет свое жилье, остальные арендуют. Как нужно доверять своему правительству, чтобы не чувствовать незащищенности или нестабильности, всю жизнь снимая квартиру! Зато и сегодня, в уже совершенно сытой и благополучной Германии, в «квартирном вопросе» немцы считают себя хозяевами положения. С ними нужно согласовывать абсолютно всё!
Особенно ярко это видно в Берлине. Городу выпала непростая судьба, почти 30 лет он оставался, пожалуй, главной ареной борьбы двух систем. Развитие Берлина показывает, что все компромиссы в попытке найти баланс между рынком и справедливостью имеют свою цену. Оно показывает, как непросто выправить брак мышления, ведь и сегодня, 30 лет спустя после падения Берлинской стены, слияние всего лишь одного города в единый социум не завершено! Почему? Это отдельная история, и «квартирный вопрос» тут играет особую роль.
Город из двух планет, или Плата за компромиссы
«Ich bin Berliner!» — «Я — берлинец!». Задолго до Барака Обамы это сказал Джон Кеннеди — уже в начале 1960-х ему было понятно, насколько непроста и трагична судьба жителей города. Впрочем, он лишь повторил это за самими берлинцами. В этих словах одновременно и горечь за свой город, который расчленили надвое, и гордость, что он выжил. Именно в Берлине две системы сошлись в конфликте, едва не переросшем в новую войну. Тридцать лет берлинцы, граждане одной нации, смотрели друг на друга через «железный занавес», который именно тут материализовался в бетонную стену. Тридцать лет два мира постоянно перекраивали город, превращая его восток и запад в свои главные витрины. И вот еще 30 лет прошло, а в городе все еще что-то сносится и строится. Берлинцы так и говорят: «Мы всю жизнь живем на стройплощадке».
Восточный Берлин жил бедно на советский манер. Западный — просто бедно, как и вся Западная Германия. Тем более почти год в блокаде…
К Восточному Берлину отошел прежний центр столицы Третьего рейха: легендарная Унтерден-Линден, идущая от Бранденбургских ворот, оставшихся в 1961 году по другую сторону стены. За ней советские и гэдээровские архитекторы выстроили колоссальную Александерплац и аллею Карла Маркса с шеренгами зданий в стиле сталинского ампира. Похоже и на Кутузовский проспект Москвы, и на Московский в Петербурге, и на проспект Ленина в Минске. Единство стилистики соцлагеря.
Дальше — район Пренцлауэр-Берг, чудом уцелевший во время бомбежек. Здания невероятной красоты, самой причудливой довоенной архитектуры до начала 1990-х только ветшали, покрываясь копотью, ведь по соседству промзоны. Реставрировать их никто не собирается, жить можно — и ладно. А еще дальше, в сторону окраин — бесконечное море грязно-белых бетонных или панельных домов. То ли Черемушки, то ли Медведково.
В Западном Берлине, наоборот, вполне пригодные для реставрации дома сносили — уничтожали всякую память о рейхе. Вместо имперских архитектурных наворотов тут функционализм — недорогое экологичное жилье. Коробки домов средней этажности, растиражированные в несметном количестве, сливаются в брутально-бетонные кварталы. Все чистенько и убого. Средняя семья жила впятером-вшестером в трехкомнатной квартире. Ванная и кухня — одна на весь этаж.
А два мира, уже вступившие в холодную войну, продолжают тратить сотни миллионов — каждый старается превратить доставшуюся ему часть Берлина в свой образец «благосостояния для всех».
Ночью 3 октября 1987 года с востока на запад города шли толпы. Прикоснуться к Бранденбургским воротам, столько лет скрытым стеной, вдохнуть воздух свободы. Забыть «Дворец слез» — вокзал на Фридрихштрассе, где четверть века восточные берлинцы, получившие разрешение на выезд в ФРГ, навсегда прощались с остающимися в ГДР близкими… И тут же с новой силой хватаются строить — город надо объединить общей инфраструктурой. Опять сносят дома, прокладывают автомагистрали.
Тут же в Берлин переезжает из Бонна столица. На пустырях рядом с Бранденбургскими воротами спешно возводят новое здание аппарата бундестага, бюро канцлера, здания министерств. Все — в стиле индустриального постмодернизма. Аквариумы причудливых форм перетянуты стальными прутьями, окна в несколько этажей — круглые или треугольные.
Но все уже, столица объединена, правительство и парламент обустроились! Так теперь нужно менять символы! И тут начинается такое!..
Гэдээровский Дворец республики — долой! Как долой? Это же наша история! Огромная площадь Александерплац — сколько места зря пропадает! Давайте застроим ее высотными башнями, разместим там бизнес-центры, элитное жилье. Что? Какие бизнес-центры и элитные квартиры? Нам нужно жилье социальное, подешевле, а главное — побольше… Вокруг каждого мало-мальски крупного строительного проекта годами ведутся дебаты. А как же, население имеет право.
Население можно понять. Несмотря на высокий темп экономического роста — 3,5-4,0% в год, Берлин по-прежнему гораздо беднее Мюнхена или Гамбурга. Уровень налогов в небогатой столице не позволяет разворачивать бюджетное строительство. Несмотря на то что уже которое поколение берлинцев живет на вечной стройплощадке, в Берлине катастрофически не хватает жилья.
А в головах берлинцев — смесь из обрывков самых разных идей, тот самый брак мышления, который тормозит слияние города в единый социум. Желание забыть гэдээровские порядки Хонеккера и «Штази» — восточногерманской гэбухи, и тут же — ностальгия по социалистической маниловщине. «Осси» все еще питают неприязнь к «весси» за их свободную раскованность, а «весси» подспудно не могут отделаться от ощущения, что они и сегодня тащат на своем горбу развращенных социализмом сограждан. Но в одном берлинцы едины: регулируемая аренда на жилье — безусловное достижение, на которое ни «осси», ни «весси» не дадут покуситься. Нет и не предвидится общественного согласия на то, чтобы и в сфере жилья начал наконец действовать свободный рынок, который дал бы каждому возможность найти жилье по своему достатку. «Странная логика, — скажет кто-то, — можно подумать, что от роста цен на жилье прибавится количество квартир в городе».
Именно что прибавится! Все крупные города передовых стран растут, развиваются и благоустраиваются за счет «джентрификации», то есть облагораживания некогда отсталых районов. Берлин не исключение. Несмотря на все меры контроля арендной платы, она все равно тихой сапой ползет вверх, тесня тех, кто победнее, на окраины, которые при этом меняют свой облик, переставая быть захолустьем.
Некогда убогие кварталы Пренцлауэр-Берг, за ним Кройцберг за последние 12-15 лет превратились в модные районы творческой богемы. Денег у нее на жизнь в «тихом центре» не хватает, буржуазный облик центра не по ней, а вот прикольные понты — отреставрированные дома с надстроенными мансардами, куча этнических ресторанчиков, оставшихся от тех времен, когда эти районы были сугубо иммигрантскими, — это то, что нужно.
Джентрификация и рост современных кварталов могли бы идти гораздо быстрее, если бы арендная плата определялась рынком. Средняя стоимость арендного метра — девять (!) евро в месяц, стометровую квартиру в центре можно снять — если найдете, конечно, — за 900 евро или 55-60 тысяч рублей. Таких смешных цен даже в Москве после кризиса 2014-2015 годов нет. Понятно, что при таких ставках аренды сложно вкладывать миллионы евро в развитие жилой недвижимости, инвестиции будут отбиваться годами. Компромисс, который казался Эрхарду таким безобидным по сравнению с масштабом его реформ, и 70 лет спустя ставит пределы развитию городского строительства.
Но рынок не остановить, деньги, капитал всегда найдут лазейки. В Берлине застройщики идут не в старые районы, где цены закреплены на «исторически сложившихся» уровнях и могут расти лишь на 10% в год. Они ищут пустыри, где «исторически» сложились только заросли лопухов на воронках от бомб.
Вокруг давно закрытого аэропорта Темпльхоф, ставшего в годы «воздушного моста» легендарным, — пустыри, превратившиеся в какое-то подобие дикого парка. Десятилетиями там лишь гоняли велосипедисты и гуляли адепты здорового образа жизни. Как они протестовали против застройки! Им нужен свежий воздух и зелень! Но вырос дом, причем поражающий роскошью: в него въезжают прямо на машинах, лифт поднимает их на террасу квартиры — индивидуальную мини-парковку. Так в этот дом по ночам летят камни. Левацкая молодежь приезжает на байках бить окна.
Та же картина и в Нойкельне, когда-то самом пролетарском районе. Рядом с бетонными коробками социального жилья тут растут «люксус-дома». Опять протесты: «Не надо нам у себя под носом таких домов! Их жители захотят дорогие рестораны, лавки органической еды, поднимутся цены на продукты, к тому же и средний уровень аренды взлетит, нам такого насчитают!..»
Государственное регулирование ставок аренды жилья не прошло так относительно безобидно для свободного рынка, как надеялся Эрхард. После его отставки с поста канцлера все партии Германии принялись соревноваться — кто предложит нации более объемные пакеты пособий и вспомоществований. А после объединения Германии — в особенности, в том числе и потому, что нельзя же отнимать у «осси» то, что было у них при Хонеккере.
Сегодня существует несколько десятков видов пособий: и многодетным, и бездетным, и безработным, и тем, кто работает «не по специальности», то есть не получает зарплату, соответствующую его квалификации. И даже незамужним женщинам, потому что одной, без мужа, трудно нести все расходы по содержанию жилья. Буквально за считаные годы после ухода Эрхарда в отставку темпы роста ВВП страны снизились с 12 до 4-5%, а безработица выросла до 11-12% И это всех устраивает! Это плата за компромиссы.
Невозможно винить Эрхарда, да и пришедших ему на смену политиков за компромиссы. Без них в демократической стране обойтись практически невозможно. Но как хрупок баланс между поддержкой только обездоленных и раздачей направо и налево льгот, которая уродует рынок. Маятник в сознании людей все время качается туда-сюда.
Истины, которые не обойти
Был ли Эрхард либералом или консерватором? Он был, как сказано, технократом. Он знал, что рынок не может возникнуть сам собой, и отводил государству важнейшую роль в перезапуске рыночной экономики. Он действовал далеко не всегда либеральными методами, но запускал именно рыночные механизмы. Других — разве что рабский труд в лагерях — не существует. Он знал законы устройства общества, и народ поверил ему, что есть истины, которые обойти невозможно. Его знания сплотили народ.
Был ли он правым или левым? Он был реалистом, твердо знающим, что без национального согласия реформы невозможны и считаться с настроениями народа необходимо. Но он не шел на поводу у народа, а последовательно и внятно показывал ему путь от прозябания к достатку.
Он дал предпринимателям стабильные правила игры и неприкосновенность прав — те вытащили заныканные на черный день деньги и вложили их в дело. Едва капитал немного окреп, Эрхард перестал защищать его от конкуренции — люди сами, без заклинаний о диверсификации и модернизации, добились уровня ВВП на душу населения 40 тысяч евро в год. Он открыл страну для свободы торговли, и Германия превратилась в лидера европейского рынка.
Так и хочется сказать российским государственным мужам: «Откройте глаза на правду. Дайте предпринимателям защиту государства, тот самый охраняемый Ordnung, — будет вам подъем экономики, бизнесмены примутся вкладывать в собственной стране деньги, которые сейчас хранят за границей от греха подальше. Дайте импортерам новых технологий налоговые льготы — будет вам модернизация. Пустите иностранный капитал в несырьевые отрасли — будет вам диверсификация. Ведь у вас в бюджете везде, где должны стоять плюсы, — одни минусы, а всё от постоянных попыток накормить пятью хлебами всех страждущих. И объясните наконец людям, какой путь прошла мировая общественная наука. Это не бином Ньютона, а всего с полдюжины проверенных жизнью истин». Умение наступать на грабли — непременно свои, самодельные — предмет особой гордости великороссов: «Что немцу хорошо, то русскому смерть». Может, уже достаточно?
Германии после войны было намного труднее, чем России сегодня. «Биологически искалеченная, интеллектуально изуродованная, морально уничтоженная нация без продуктов питания и сырья, без действующей транспортной системы и чего-либо стоящей валюты, страна, в которой… голод и страх убили надежду»[75] — слова публициста Густава Штольпера. И уж к Германии-то мир было ничуть не добрее, чем к сегодняшней России…
Милтон Фридман: как рождаются и растут деньги
«Их рождает свобода и ничто другое», — заявляет Милтон Фридман. Его философию можно выразить одной фразой: деньги делают мир лучше, а люди, и особенно государство, им мешают, правда людей еще можно чему-то научить…
Научить непросто… Милтон Фридман был родоначальником и самым ярким представителем монетаризма. А слово «монетаризм» такое же ругательное у нас, как и «либерал», если не больше. Гляньте в ленты соцсетей — пролистав кошечек и мнения девушек о сексуальности мужиков, и вот оно: чуть кто вспомнит о реформах 1990-х — тут же костер инквизиции.
«Эти мальчики в коротких штанишках, всякие Гайдар, Чубайс, Авен… книжек начитались, усвоили модное слово "монетаризм" и принялись нас лечить… шоковой терапией… превратили наши деньги в прах, страну развалили либерализацией и приватизацией…» «Монетаризм, будь он неладен». И пошла свара, в которой каждый рвется поучаствовать. Даже те, кто о реформах знает понаслышке ввиду младенческого возраста в то время, сыплют уверенными суждениями о том, что именно писали монетаристы, поминают чикагскую школу… Слыша звон, но толком не зная, где он… Но всем есть что сказать! Монетаризм, мол, это беспощадный рынок, где сильнейшие выживают за счет бедствий всех остальных. В это каждый третий, если не второй, верит крепко.
Нет более гуманной теории экономики, чем теория Милтона Фридмана. Он заботится о человеке, о его деньгах и его свободе. Человек для него — центр, вокруг человека все и крутится. Человек существо эгоистичное — тут не поспорить — и весьма рациональное. Всегда ищет деньги и выгоду, а поскольку выгода в будущем штука неопределенная, то он ищет как можно больше информации. Фридман отстаивает право человека на свободу решений. Дайте ему свободу, стабильность и доступ к информации — люди сами в поиске денег отрегулируют экономику лучшим образом.
Кто сомневается, может сам Фридмана почитать. В отличие от Маркса и тем более Кейнса, читать его легко. У него, конечно, есть масса статей, полных математических выкладок, где он разбирает по косточкам технику работы экономики… Но две его главные книги увлекательны и эмоциональны. Он не развивает, как Маркс, шаг за шагом, теоретическую систему, а яркими мазками рисует общую картину мира, желая встряхнуть читателя, заставить его думать. И спорить! Только спорить с полным пониманием того, о чем речь.
Его книги «Капитализм и свобода» и «Свобода выбирать» — о свободе в отношениях между людьми и их деньгами. Подобно всем теориям, оставшимся в копилке человечества, они появились как ответ на вызовы своего времени. А время Фридмана — середина XX века, вплоть до 1970-х — было затейливым. Не только в Германии пышным цветом цвели социалистические иллюзии, с которыми боролся Эрхард. Вы ахнете, узнав в следующем очерке, что творилось в Британии! А как считаться с этими настроениями, не разрушая основ капитала? Все политики занимались скрещиванием ежа и ужа — госрегулирования и рынка (мичуринцы просто!), крепко держась за учение Кейнса, которое уже вроде бы доказало, что государство может эффективно бороться с кризисами, безработицей и вообще это единственная панацея от беспощадного рынка. Вот его теорию и крутили на все возможные лады.
Милтон Фридман создал свою теорию и философию в ответ на усиление влияния государственников в странах Атлантики. Динамичный рост социалистических стран — на дрожжах объединения их в соцлагерь — еще себя не исчерпал. Еще не вылезли наружу дефекты экономик с удушенным рынком. Плановая экономика еще кажется привлекательной, левые интеллектуалы невероятно влиятельны. Фридман воспринимал это как вызов. Ему надо было встряхнуть людей, проорав им в уши: «Осадите государство, оно убивает ваши деньги!»
Сама интеллектуальная атмосфера тех лет, писал Егор Гайдар, через 20 лет под давлением нарастающего кризиса «"государства всеобщего благосостояния", проблем социалистических экономик в СССР и Восточной Европе и их последующего краха радикально изменится. Но в конце 1950-х — начале 1960-х годов это мало кто способен понять»[76]. Можно счесть Фридмана сумасбродом, но на самом деле он — идейный либерал. Он понимает: чтобы читатель тебя услышал, надо говорить о гораздо большем, чем сама экономика. О самых базовых понятиях и ценностях: о свободе и насилии, о выборе и принуждении. О добре и зле.
Идейных либералов не любят
Так он не только монетарист, он еще и идейный либерал?! Совсем плохо… Добро бы идейных либералов не любили только в России, у нас вообще мало кого любят, швыряясь понятиями-перевертышами вне контекста и навешивая ярлыки, все больше ругательные. А уж понятие «либерал» — перевертыш не только у нас, во всем мире! Как правило, либералы крайне критичны к власти — а у нас они ее вообще терпеть не могут — правда, не без оснований: государство у нас тупо неповоротливое и действует все больше запретами. Запреты либералы терпеть не могут нигде, но парадоксальным образом в арсенале их инструментов намного больше запретов, чем свобод, которые они отстаивают. Либералы повсюду весьма снисходительно и покровительственно относятся к «народу», а у нас они его не любят откровенно, называя народ «ватниками», да при этом еще и противопоставляют себя патриотам, хотя любить собственную страну вполне естественно для любого человека. И к тому же еще либералы постоянно ругаются между собой, потому что тот, кто «за свободу, и прежде всего за свободу мнений», абсолютно нетерпим к любым мнениям других. Одним словом, понятие «либерал» запутали до предела.
Добро бы только в России, но и в остальном мире за пару веков égalité и liberté представление о либералах перевернули с ног на голову.
В начале XIX века либералом был тот, что считал, что свобода — право каждого и самое действенное средство для роста достатка, а значит, и относительного равенства. Именно относительного, так как люди все разные, но каждый свободен достичь своего личного максимума. К концу же XX века либералами стали называть себя те, кто считал ровно наоборот: государство должно обо всех позаботиться, достичь максимума равенства для всех, тогда люди станут свободными. Телегу поставили впереди лошади.
Настоящие идейные либералы обычно представляются странной, даже опасной сектой. В ответ они — чтобы быть услышанными — вынуждены заострять, радикализировать свою позицию. За что их любят еще меньше. Писателя Айн Рэнд современные «либералы от государства» не любят до такой степени, что считают ее сумасбродной радикалкой.
Так можно было бы сказать и о Фридмане, но тут, извините… встряла Нобелевская премия. И уже не назвать его интеллектуальным изгоем. Хотя как его травили именно либералы от государства, изображая его и Айн Рэнд социал-дарвинистами, которые насаждают идеи выживания сильнейшего! Впрочем, кто не подвергается осмеянию и травле, тот, возможно, не заслуживает внимания вообще…
Фридман утверждал, что роль государства во всех сферах общественной жизни должна быть минимальна. Высокие налоги, государственные долги — все это вред и еще раз вред. Государство полагает, что деньги ему нужны для того, чтобы выполнять свои функции, но в том-то и дело, что у него слишком много лишних функций, оно пухнет от сознания собственной значимости. «…Трагедия в том, — писал он, — что когда правительство делает столько разных вещей, которые не являются его функциями, то свои истинные функции оно выполняет крайне плохо. Главные его функции — защищать свою нацию от внешних врагов, предотвращать насилие одних индивидов над другими… создавать правила того, как сами люди должны устанавливать законы для себя, а также разрешать споры»[77].
В экономике основная функция государства — регулировать количество денег, не допуская инфляции, излишних государственных долгов и ненужных государственных расходов. «Деньги — самый мощный и полезный инструмент в распоряжении политиков», — утверждает Фридман.
Нужно стимулировать рост экономики — пожалуйста. Увеличьте — осторожно, не допуская инфляции, — количество денег в обращении, тогда подешевеют кредит и инвестиции. Изымайте деньги из обращения, если этого требует поддержание стабильности вашей валюты. Не трогайте цены! Если есть какие-то остро значимые социальные товары, лучше временно дайте субсидии их производителям.
Поднимать налоги, чтобы финансировать социальную защиту? Совсем плохо… Налоги необходимы, но плоское налогообложение (как в сегодняшней России), когда все платят одинаковый процент, — самое справедливое: аморально вешать ярмо именно на тех, кто производит больше других. Сильная система социальной защиты может быть создана и… самим рынком! У Фридмана ярко звучит та же мысль, которая приглушенно звучала у осторожного Эрхарда: лучшая социальная политика — это эффективная рыночная политика. А Фридман все свои идеи полемически заостряет, доводя порой до абсолюта, — чтобы услышали, черт возьми!
Доступная медицинская помощь? Ограничьте разумным минимумом требования к лицензированию врачей. Медиков станет больше, и пусть они конкурируют, тогда снизится и стоимость их услуг. Пусть вся медицина будет частной, а государство пускай помогает самым нуждающимся оплачивать ее услуги. Никогда в государственной клинике не будет лечения, сравнимого по качеству с лечением в частной.
То же и с образованием. В государственных школах обучают, но не образовывают, убеждает Фридман. В них платят учителям за стаж, а не за талант педагога. Какой быть школе — тоже решает государство. Так ли уж нужны бассейны или корты, новые просторные школьные здания для образования детей? Дайте каждой семье ваучеры на образование детей и сделайте школы частными. Родители сами выберут, что им важнее: широкий набор дисциплин, спорт или исключительность педагогов. По характеру и способностям своего чада.
Армия? Только добровольная! Солдат — это призвание, по принуждению хороших солдат не набрать. Если их не хватает, значит, парни не хотят идти воевать за вашу идею, господа политики! Когда армия станет добровольной и наемной, тогда каждая война, каждое вторжение в чужую страну, по сути, будут решаться общенародным референдумом: готов ваш народ за это воевать или нет.
Фридман не только уверен, что это самые нравственные подходы, он убеждает читателя в том, что они и самые экономичные. Представьте, как можно будет сократить объем налогов, если школы, страхование, медицина будут финансироваться не государством, насколько эффективнее и экономнее частный собственник будет управлять школой. Сколько будет сэкономлено денег на ненужную околошкольную госбюрократию.
Рыночные свободы — это путь к согласию нации, вот, пожалуй, самое главное. «Чем шире диапазон деятельности… в рамках рынка, тем меньше вопросов, требующих чисто политического решения и соответственно требующих достижения согласия. В свою очередь, чем меньше вопросов, требующих согласия, тем вероятнее его добиться и сохранить в то же время свободное общество»[78].
Добиться согласия в свободном рыночном обществе проще, чем в системе запретов и инструкций, которые никогда не удовлетворят всех. Нам, россиянам, настолько многое не нравится, что в этом «многом» все вперемешку — главное, неглавное… Сумбур в мыслях мешает искать единомышленников. Фридман предлагает прийти к согласию по главному вопросу: государства должно быть мало, пусть оно лишь охраняет свободу отношений между человеком и его деньгами, делает эти отношения предсказуемыми.
Утопия? Как философия — нет, как реальная политика — похоже, что да. «Это — прекрасный сон, но, к несчастью, у него нет никаких шансов сбыться в настоящее время»[79], — признает сам Фридман. Либералами стали называть себя стыдливые социалисты, не имеющие мужества признаться себе, что равенство — égalité — для них намного важнее liberté. А курс на равенство, в отличие от курса на свободу, всегда предельно зарегулирован. Всегда порождает несогласие.
Человек никогда не доволен. Ничем. Когда в обществе доминирует государство, неудовлетворенность направлена на власть, ее винят в том, что она не справляется с задачей выравнивания доходов и социальной защиты граждан. Взяла на себя больше, чем может выполнить. «В свободной же рыночной системе неудовлетворенность и зависть направлены на рынок»[80]. В нем видится источник всех бед, а защитником представляется государство. Скидывая с плеч свои обязанности и получая взамен право требовать благ от государства, человек добровольно отдает ему и свою свободу. И требует все громче, и винит государство, что благ мало… А их мало, потому что государство не умеет и не должно уметь их производить.
В этой книге «Свобода выбирать», которую Милтон Фридман написал вместе с женой, точнее, они положили на бумагу цикл собственных телепередач под таким же названием, они пишут поразительные вещи. «Там, где есть свобода рынка, простой человек всегда может достичь уровня жизни, о котором раньше не мог и мечтать, — заявляет он. —
Прогресс промышленности, все чудеса современной эры очень мало дали богатым (!). Великие достижения капитализма создали благоприятные условия главным образом для простого человека.Именно ему стали доступны масса удобств и удовольствий, которые раньше были привилегией богатых»[81]. Как раз рынок и конкуренция капиталов ведут общество в сторону выравнивания доходов!
«Задайте себе вопрос: какая продукция и услуги постоянно вызывают недовольство и претерпели со временем меньше всего улучшений? Почтовая служба, начальное и среднее образование, железнодорожный пассажирский транспорт, без сомнения, будут первыми в списке. Спросите себя: какая продукция и услуги больше всего удовлетворяют вас и постоянно улучшаются? Бытовая техника, теле- и радиоаппаратура, hi-fi аппаратура, компьютеры, а также супермаркеты и торговые центры наверняка возглавят этот список»[82].
Вся дрянная продукция производится государственным сектором или регулируемыми отраслями. Все качественные вещи производятся частными предприятиями с небольшим участием государства или вовсе без него. «Тем не менее общественность, по крайней мере большая ее часть, убеждена, что частным предприятиям… необходим неусыпный контроль… чиновников, чтобы помешать им навязывать опасную, фальсифицированную продукцию по возмутительным ценам невежественному, доверчивому и уязвимому покупателю»[83].
Фридмана пересказывать — только впечатление портить. Его нужно цитировать и цитировать. А еще лучше читать. Экономика, описанная его живым языком и наполненная его неуемной энергией, перестает быть унылой наукой.
Он считает наивной теорию Кейнса, не приемлет основанную на этой теории экономическую политику, что была в ходу в странах Атлантики в его время. Политики используют «кейнсианский язык и аппарат», но делают вид, что не замечают его выводов. Уж больно на руку армии госбюрократов фразеология Кейнса. Эти «слуги народа» заботятся только о праве государства решать, что лучше человеку. «В политике есть своя невидимая рука, действующая в направлении, противоположном тому, в котором действует невидимая рука рынка» — так припечатал Фридман государственных бюрократов.
Не сказал он доброго слова и о Марксе, хотя апеллирует к законам, открытым именно им. Но Маркс уже был так перевран марксистами всех мастей, что вычленять его собственные мысли, отделять его экономическое учение от его социальной веры — оно того стоит? Только ввязываться в бессмысленный спор.
С уважением он пишет о «немецком чуде», сравнивая Западную и Восточную Германию: «Эти две части были населены людьми одной крови, одной культуры, одного уровня образования и квалификации. Какая из них добилась процветания? Какая была вынуждена воздвигнуть неприступную стену, чтобы запереть за ней своих граждан? Какой из них пришлось поставить у этой стены вооруженную до зубов охрану со свирепыми псами, окружить ее минными полями и другими ухищрениями дьявольской изобретательности, чтобы не дать смелым и отчаянным гражданам с риском для жизни покинуть коммунистический рай ради капиталистического ада по другую сторону стены?»[84] И тут же он упрекает Эрхарда, что тот пошел на поводу у социалистов! Идеи «социального рыночного хозяйства» для Фридмана — словоблудие. Он верен своему главному убеждению: деньги в руках человека — это всегда лучше, чем в руках государства.
Вообще-то, если без обиняков, Фридман практически всех экономистов множит на ноль. Препротивнейший человек — так, что ли? Да нет, не так…
Последовательность и верность
Невероятно веселый, улыбчивый, Фридман до самой смерти в 94 года умел радоваться как ребенок. Новым интересным людям, содержательным беседам, всему, достойному радости. Вплоть до погоды и расцветших мальвазий в собственном саду. Он полон озорства, жаждет полемически заострить принципы, в которые верит. Довести их до абсолюта, чтобы отрезвить читателя, уже готового отдать все свои права государству и ждать от него указаний, как жить.
Милтон Фридман рос в многодетной и небогатой еврейской семье в Бруклине. В те годы Бруклин был задворками Нью-Йорка, это сейчас его юго-восточная часть — прибежище богемы, а северо-восток, Лонг-Айленд, — роскошный морской курорт. Учиться он мог только на стипендии — в Америке, кстати, их дает не государство, а сами университеты. Частные, жутко дорогие, но именно поэтому они могут бесплатно принимать способных студентов и давать им стипендии. Фридмана выбирали в свои классы и семинары лучшие преподаватели, чьи имена остались в истории экономической мысли, — Джон Бейтс Кларк, затем Саймон Кузнец.
Женился он рано, жена Роуз была старше его на два года, тоже была экономистом, они часто работали в соавторстве. Оба были противниками любых запретов. Считали, что нельзя запрещать даже употребление наркотиков: человек свободен распоряжаться своей жизнью, и, если он хочет убивать себя, — вольному воля. На первый взгляд это кажется диким, а на второй… Черные рынки идут рука об руку с любыми запретами. Криминализация наркотиков блокирует возможность лечить наркоманов, убеждать людей отказаться от колес и шприцев, разрушающих здоровье. Отловленные полицией наркодилеры — капля в море общего наркотрафика. Фридман вместе с женой объясняет в книге «Свобода выбора», что человек может отказаться от наркотиков только добровольно и осознанно, а если он осознанно этого не делает — что ж, у каждого есть право убивать себя. Возможно, легализация торговли наркотиками может быть отнесена к его полемическому радикализму, но он сам объясняет, почему менее радикально не получится…
«Те из нас, кто испытывал глубокую тревогу за свободу и экономическое процветание… являли собой ничтожное загнанное меньшинство и воспринимались большинством собратьев-интеллектуалов как эксцентрики», — пишет он. А свободе и процветанию несет угрозу именно «рост государственных полномочий, идеи государства всеобщего благосостояния и кейнсианские воззрения»[85]. Человек должен перестать бояться свободы лишь потому, что она требует от него ответственности.
Фридман — не политик и может себе позволить говорить что думает, в отличие, например, от Людвига Эрхарда, который нес груз ответственности за свою нацию. Как ни велика была заслуга Эрхарда в возрождении своей страны, он внес, надо признать, свою лепту в перерождение либеральной идеи. Из идеи свободы, с помощью которой человеческий разум все выправит сам, либерализм мутировал в идею равенства прав на долю общественного пирога.
Фридман прожил жизнь свободного человека во всех отношениях. В 1976 году он получил Нобелевскую премию «за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории». Своей последовательностью он добился всемирного признания. И даже в личной жизни, где каждый человек создает собственные правила, он оставался всю жизнь верным своему выбору, однажды сделанному. Они с Роуз прожили вместе более 60 лет. В 1977 году компания Free To Choose Network предложила теоретику сделать телепередачу, где он мог изложить свою экономическую и социальную философию. Вместе с женой он работал над передачей три года, и в 1980 году 10-серийную программу «Свобода выбора» показал телеканал Public Broadcasting Service. Параллельно они вместе с Роуз писали книгу под тем же названием, которая тут же стала бестселлером, ее перевели на 14 языков.
Любовный треугольник: люди — деньги — стабильность
Центральная ось теории Фридмана, вокруг которой крутится остальное, — это отношения человека с деньгами. Именно отношения: любовь, верность, измены…
Что лучше: потратить деньги сегодня или поднакопить на завтра? В периоды инфляции, когда деньги дешевеют, все лихорадочно тратят. Вспомните, как в канун 2015 года наши соотечественники сметали с прилавков телевизоры. Один телевизор — еще понятно, лучше купить, пока не подорожал. Два — еще укладывается в голове. Но люди хватали по пять-шесть! Они были одержимы ожиданиями: телевизоры подорожают в разы, и продажа по новой цене будет отличным гешефтом.
«Инфляция — единственная форма наказания без законного основания» — название одного из эссе Фридмана. Она обесценивает прошлый труд и прошлые заработки, несет народу нищету, сметает правительства. В Германии после Первой мировой войны, во времена Веймарской республики, к вечеру цены были в 10 раз выше, чем с утра, и это привело к власти нацистов.
Постоянные цены тоже плохо — капитал теряет интерес совершенствовать свои товары. Телевизор «с примочками» будет дороже обычного, и не факт, что его купят. Если цены падают — тоже плохо: люди не тратят, а ждут, что завтра, может, все еще дешевле станет. Сокращается спрос, начинается спад производства.
Нужна дозированная, предсказуемая инфляция, 3-5% в год, считает Фридман. Центральный банк (или его аналог в США — Федеральная резервная система) с помощью печатного станка добавляет в экономику чуток денег, и voilà — люди убеждены, что нужно бежать за покупками прямо сегодня. Рост спроса поддерживает производство, капиталистам не в убыток вкладываться в усовершенствования, конкуренция подгоняет технический прогресс. Но если инфляция превышает 8-10% в год — это уже не поддержка, а непредсказуемость. Нет информации о будущих ценах и доходах, и никто ничего не вкладывает — ни капиталист, ни обыватель.
Деньги — товар длительного пользования, приносящий много пользы их обладателю. На вопрос «Любишь ли ты деньги?» мой младший ребенок в шесть лет ответил: «Все любят деньги. Все хочут деньги…»
Люди хотят иметь больше денег, чем могут потратить. Обожают их копить — ведь стабильности хочется и в будущем. Кейнс считал, что склонность человека к сбережению сдерживает спрос, и это плохо: нехватка спроса сдерживает производство. «Постойте, — говорит на это Фридман, — ерунда какая-то…»
Люди же не в тумбочку деньги складывают. Если они вкладывают сбережения в недвижимость, золото, ценные бумаги, депозиты на банковских счетах, то каждое из этих вложений растет, то есть работает как капитал и увеличивает ВВП общества. Каждый человек — капиталист, как бы скромен ни был его доход, все, что он откладывает, — это капитал. Он подсчитывает, что принесет ему вложение и что на эти деньги он сможет купить в будущем. А для этого — смотри выше — опять-таки нужны стабильность, отсутствие инфляции. То есть информация о будущем. Тогда человек понимает, что будет происходить, и в состоянии выстроить свои отношения с собственными деньгами самым приятным для себя образом. Связь между спросом, сбережениями и инвестициями оказывается более сложной, чем считал Кейнс.
Вспомните последние три года! Оказалось, что в России, где все хором жалуются на бедность, у большинства имеются-таки загашники. Все суетились, спрашивали друг друга: «В чем лучше хранить деньги: в долларах, евро или рублях?», «А не отменит ли государство доллары?», «А не заставит ли оно всех обменять доллары на рубли?». И много-много других подобных вопросов… Они показывают, до какой степени обыватель боится непредсказуемости и насколько она в России высока: никто не в силах сказать, какой фортель может выкинуть государство. Не имея никакой информации, люди оказываются не в силах принимать рациональные решения. Откладывают «на потом» покупку или продажу квартиры — а вдруг будет дороже или, наоборот, дешевле. Боятся тратить — а вдруг завтра будет еще более черный день. Откладывают на стабильное «потом» не только деньги. Саму жизнь.
И люди, и деньги любят стабильность. Но деньги, в отличие от людей, еще любят свободу. А вот когда люди любят стабильность больше, чем свободу, то деньги могут этого и не простить. Непростые у денег отношения с людьми…
Стержневая мысль Фридмана — государство приносит пользу, когда оно ограничивает свое вмешательство в экономику прежде всего регулированием количества денег в обращении. Его теория и называется поэтому монетаристской. Понятно, что всегда есть социальные программы, пособия, это очевидные частности, но отношения денег и людей должны оставаться свободными.
И вот возникает вопрос: а почему, собственно, в России слово «монетаризм» стало ругательным? С «либералом» проще — большинство боится свободы. Но ведь деньги-то любят все, это даже ребенку ясно! Вот только путь к ним лежит через принятие и желание свободы, а людям хочется защиты, пусть иллюзорной.
Даже теория Кейнса и та вызывает меньше нападок, чем монетаризм. Слышится в ней какой-то привлекательный звон: сильное государство, нет высоких налогов — всего 13%, ниже некуда. Безработицы, которой все так боятся, оно вроде не допускает — прав был Кейнс насчет крупных госпрограмм, обилие которых у нас поражает неистощимой изобретательностью. Есть у сильного государства и свои деньги — с чего монетаристы взяли, что их у него не может быть? — у нас же столько госкомпаний. И что думать о скучных материях!.. О том, что если бы госкомпании были частными, то объем их налогов мог бы быть намного большим. О том, что за низким подоходным налогом скрыто немыслимое нагромождение налогов на бизнес, пошлин и сборов. Главное что? Государство на все свои программы где-то находит деньги! Жаль, правда, что так мало. Сильное государство, а какое-то беспомощное. Но все-таки во многом Кейнс прав — государство должно все регулировать, иначе же сплошной дикий рынок. Положим, Кейнс говорил совсем не так, но так думать легче. Чувствуете, как легко прокладывает себе путь брак мышления?
Монетаризм же отодвигает государство на задворки, и именно это раздражает. У Фридмана денежно-кредитная политика — это постоянный тонкий тюнинг рынка, превентивное средство, дабы не дать государству возможности запускать руки в нутро экономического устройства. Денежная политика — единственная форма государственной политики, которая не ограничивает свободу людей, денег и рынка. Все опять упирается в свободу, что не нравится почти никому.
Монетарное регулирование дает свои плоды через годы и годы, оно не может быть реакцией на подъемы и спады. Надо терпимее относиться к безработице: пока ее уровень не превышает 6-8%, не надо ничего специально предпринимать, говорил Фридман. У работодателей есть выбор, работники держатся за рабочие места и конкурируют друг с другом, а пособия по безработице еще не ложатся ярмом на государство, провоцируя его поднимать налоги. Если государство не будет вмешиваться в цены, те будут стремиться к конкурентным, которые обоснованы издержками производства. Даже монополий не стоит бояться — рынок сам разрушает монопольную цену.
А вот инфляция, считал Фридман, зло абсолютное. Когда растут цены, причем непредсказуемо, то неясно, что происходит с производительностью труда. А это ключевое понятие. Поршень в цилиндре двигателя, который приводит в движение автомобиль. Ведь если люди производят больше в единицу времени, то растет ВВП, растет их достаток. Для оборота увеличившегося ВВП требуется больше денег! Вот и ответ на вопрос, где пределы роста цен и сколько должно быть на рынке денег. Снова все просто и понятно.
Фридман решительно против постулата Кейнса о пользе роста государственного долга: жить надо по средствам. Только кажется, что государство набирает долги для того, чтобы укрепить экономику. На практике оно берет в долг, чтобы развертывать собственные программы, создавать собственные предприятия, поддерживать отрасли производства, которые ему, государству, кажутся важными. Важны ли они на самом деле — бабушка надвое сказала, зато бесспорно, что отдавать долги государство будет за счет денег своих граждан. Теоретически меры Кейнса, может, и хороши, но на практике такая политика плодит огромную бюрократию, чревата в лучшем случае ошибками в распределении ресурсов, а в худшем — злоупотреблениями, усушкой и утруской по дороге, колоссальными накладными расходами. Игра не стоит свеч, убежден Фридман.
Как только люди в своей любви к деньгам изменяют им, поглядывая в сторону стабильности из рук государства, тут же начинают происходить странные вещи. Любовный треугольник «деньги — человек — стабильность» сползает в сторону социалистических иллюзий. Фридману даже слово «социалистический» претит, он использует словечко «коллективистский».
Взять ту же Германию. Эрхард был членом партии с обманчивым названием — Христианский демократический союз, вполне правой, или консервативной, или «рыночной». Не левацкой, не просоциалистической. Он железной рукой вводил сверху все базовые правила рынка, укреплял частную собственность, действуя денежными, то есть монетарными, и налоговыми инструментами, и страна росла как на дрожжах. Считаясь с социалистическими настроениями, Эрхард просил у народа лишь времени: дать капиталу укрепиться, экономике подняться. Он обещал «благосостояние для всех», и оно наступило. Но сколько бы он ни доказывал, что лучшая социальная политика — это эффективная рыночная политика, которая создает рабочие места, его едва ли слышали. На короткий миг, в 1963-1966 годы, в наступившее благосостояние поверили, но хотелось все большего… В 1966 году народ сместил Эрхарда с поста канцлера. Люди принесли свою любовь к деньгам в жертву стабильности: пусть меньше денег, зато наверняка. И тут же развитие замедлилось.
Темпы роста экономики при Эрхарде достигали 9-12% в год, в конце 1960-х снизились до 3-4%. Потому что стали расти налоги, а значит, слабеть стимулы к наращиванию производства. А налоги стали расти, потому что деньги сжирали социальные расходы и бесчисленные пособия. Не только в России — везде с легкостью забывают, что все бесплатное имеет особенно высокую цену.
Зато теперь уже 20 лет безработица в Германии прочно держится на уровне 12%, и такая стабильность всех устраивает. Одна восьмая часть населения выключена из создания общественного богатства! Как могло бы рвануть производство, если включить в производство хотя бы половину этой вполне трудоспособной рабочей силы. Так нет! Живут себе люди на пособия и прекрасно себя чувствуют.
Политика и философия
Особо не тыча этого никому в глаза, политики вполне оседлали теорию Фридмана. Все центральные банки строят свою политику по его теории. С помощью его идей о взаимосвязи между инфляцией, валютной стабильностью, ценой денег в виде кредита и экономическим ростом Центробанк России сумел не допустить крушения нашей экономики в 2014-2015 годах.
В 2014 году в Россию пришел кризис, потому что на фоне резко подешевевшей нефти — главного источника наполнения бюджета — западные санкции внезапно перекрыли приток капитала в страну. Они формально касались только государственных структур, как известно, но по факту кислород оказался перекрыт притоку капитала вообще.
Причина в том, что у нас почти все банки государственные! Если бы у нас был один-два госбанка, остальные могли бы, как и раньше, привлекать деньги с международных рынков, и кризиса мы, возможно, не почувствовали бы. Но у нас 80% банковского рынка приходится на Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Санкции перекрыли приток капитала этой пятерке — и всё, капитал в страну идти перестал. А люди как переводили деньги за границу, так и продолжали это делать — кто родственникам, кто на учебу детей. Многие переводили из-за тех самых страхов нестабильности: «Не запретят ли завтра в России доллары и не заставят ли их обменять на рубли?» В результате вот что: приток капитала в страну перекрыт, отток продолжается. Вот вам и курс доллара 65 рублей вместо прежних 30.
ЦБ и Минфин России сумели остановить обвал рубля. Жестким уменьшением госрасходов, что позволило не истратить все валютные резервы на поддержку рубля и сохранить инфляцию в приемлемых параметрах. ЦБ избежал соблазна попросту включить на полную мощность печатный станок. Конечно, удерживать инфляцию в пределах однозначных цифр было нереально, в 2014 году она достигла 17%. Но уже на следующий год снизилась до 14%, а к середине 2017-го — до 4%. Наш Центробанк прекрасно усвоил мысль Фридмана, что инфляция — самое большое наказание, ее последствия для экономики разрушительны.
При этом мы ненавидим монетаризм, как это понять? Да очень просто: на уровне политики технократам ясно, что монетаризм дает эффективные инструменты для преодоления денежных кризисов. А вот на уровне философии…
С одной стороны — лейбористы в Британии, демократы в США, социал-демократы в Германии. Они — за стабильность государственных гарантий благосостояния. С другой — тори в Британии, республиканцы в США, Христианско-демократический союз в Германии. Они — за стабильность рынка, при которой каждый может предсказуемо реализовать то, на что способен. В этом и различия, если упрощенно. Не стоит думать, что лейбористы и демократы — кейнсианцы, а тори и ХДС в Германии зачитываются Фридманом. На практике политики в каждый конкретный период предлагают народу программы «на злобу дня». Разве только «более рыночные партии» всегда отстаивают менее высокие налоги и меньшее перераспределение дохода от богатых к бедным. Это в политике. А с точки зрения философии это уже две разные системы убеждений.
Все сводится к базовым, ценностным понятиям — деньги, свобода, личная ответственность или потребность в защите… Философия Фридмана — не выживание сильнейших за счет остальных, это просто философия зрелого, самостоятельного человека. Инфантилам ее не полюбить.
Можно не соглашаться с Фридманом во многом. Спорной является его идея, что надо выдать родителям деньги на обучение детей и пусть родители сами решают, где и чему ребенку учиться в частных школах. Для многих — для моего сына, например, — неприемлема идея частной медицины, когда менее обеспеченным помогают только деньгами, чтобы те могли лечиться в конкурирующих клиниках. «Они пропьют все деньги, выданные на лечение, а потом будут подыхать на улице. Меня как гражданина это совершенно не устраивает», — заявляет сын.
Вот в чем разница — в оценке человека. Верим мы в его разум, способность жить рационально или считаем его недоумком, за которым нужен пригляд государства, потому что сам он не способен справиться со свободой и уж тем более распорядиться своими деньгами. Тех, кому свобода дороже, чем коллективизм, — меньшинство. Начав по частям отдавать свою свободу государству, за десятилетия люди привыкли к ограничению свободы, утратили желание нести ответственность за свою жизнь, и разум начинает деградировать — мой сын уже точно разуверился в разумности человека. А Фридман бросает вызов тенденции превращать людей в инфантилов, постоянно лишая их ответственности за самих себя. Можно отрицать его взгляды, а можно над ними размышлять…
Во всех странах Атлантики господствует «смешанная экономика» и новое понятие либерализма как выравнивания доходов и однотипности дозволенных свобод. Несбыточный сон Фридмана едва ли когда-нибудь станет явью. Либералы так усердно занимаются регламентацией дозволенных свобод и мнений, так пекутся о меньшинствах и мигрантах, многодетных и одиноких — словом, обо всех, кроме тех, кто умножает общественное богатство, — что время от времени у трудяг этот явный перебор вызывает протест. Им, конечно, совершенно безразлично, кто истинный, а кто неистинный либерал, просто выводит из себя неуемная любовь к перераспределению в пользу бедных. Инстинкты толкают голосовать за рыночников вроде Рейгана или Тэтчер, героиню нашего следующего очерка, а то и просто за националистов, выступающих под флагами защиты собственного трудового народа от «пришлых». Много оттенков в том, как именно качается маятник между представлениями людей о свободе и о защите.
Спустя какое-то время избиратели в рыночниках разочаровываются, им хочется снова пожить за счет государства. Но драма в том, что для восстановления всех функций рынка, для того, чтобы низкая инфляция, снижение налогов, расширение свободы капитала дали ощутимые плоды обывателю, потребителю — таким, как мы с вами, — для этого нужно время! Годы последовательности, как говорил Фридман. У Тэтчер получилось быть последовательной, потому что она сумела продержаться у власти три срока. А люди нетерпеливы. И снова у власти «коллективисты».
Однако, в отличие от наших граждан, жители стран Атлантики все попробовали на собственной шкуре. Какая бы каша ни была у них в голове, они понимают, что деньги на деревьях не растут.
Достаточно вспомнить о Гайдаре и его команде. Они якобы манипулировали общественным сознанием, суля всем по «Волге» от приватизации и изобилие на прилавках по доступным ценам. Какого же низкого мнения о себе нужно быть, чтобы винить другого в том, что тот другой задурил тебе голову!
У нас просто не хватило терпения дождаться, когда осядет пена и каждый сам научится растить свои деньги на своих собственных деревьях, которые однажды начнут плодоносить. Более того, большинство — и те, кто застал 1990-е годы, и те, кто судит сегодня о них со слов родителей, — так и не поняло главного: как произошла подмена того свободного рыночного общества, которое строили Гайдар и его команда, вооружившись лучшими экономическими теориями.
Гайдара можно назвать учеником Фридмана, они много общались, Егор Тимурович многое перенял у нобелевского лауреата. Но преемники Гайдара один за другим начали идти на компромиссы: тут чуть поменяем, тут обойдемся, тут сделаем наоборот — на время. Государство стало хвататься за те функции, которые ему не по зубам, а с середины нулевых — вообще торжество государственного подхода: государство, мол, само может устанавливать законы рынка сообразно своему, государственному целеполаганию. В результате мы и имеем тот самый капитализм с нечеловеческим лицом. Ни Богу свечка, ни черту кочерга, как сказала бы моя покойная свекровь с Орловщины.
Не одни мы, русские, любим стабильность, которую якобы дает государство. Не только мы считаем ее надежнее стабильности денег и свободы. Наше отличие лишь в отсутствии опыта, который позволил бы сравнить две стабильности: как чахнет экономика, когда ее терзает государство, и как она расцветает, когда государство разжимает клещи. Не имея такого опыта, мы считаем, что он нам и не нужен, и все ищем свой «особый путь». Каждому хочется гордиться своей страной, только как гордиться тем, что умом Россию не понять?..
Под одну гребенку или все же законы не обойти?
Ни одной стране в мире не удалось обойти объективные экономические законы, хотя «особый путь» манил многих. И именно тогда, когда хотелось преодолеть собственную отсталость и побыстрее догнать передовую Атлантику.
Период самых массовых попыток ее догнать — 1950-1960-е, когда на сцену вышли более 100 стран, бывшие колонии. Бурный всплеск новой общественной мысли: теперь это независимые страны и их граждане достойны жить не хуже, чем население бывших метрополий! Задача не только для свежеиспеченных правительств этих стран. Историческая вина перед бывшими колониями заставляла страны Атлантики принимать проблемы слаборазвитых стран как свои собственные.
Свежеиспеченные правительства тоже решали задачу: как развить инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство. Неужели нет «особого способа», чтобы взять побыстрее из опыта Атлантики все приятное, но отбросить все непривлекательное? По-человечески так понятно, и тем не менее — блаженная маниловщина.
«В прошлом веке утвердился миф о том, что свободный рыночный капитализм — равенство возможностей, как мы интерпретируем это понятие, — ведет к росту неравенства настолько, что складывается система, в которой богатый эксплуатирует бедного, — пишет Милтон Фридман. — Нет ничего более далекого от правды»[86].
Фридман почти кричит, чтобы быть услышанным: «Это неправда, что рыночный капитализм, общество, построенное на капитале, несет людям нужду и лишения!» Совсем наоборот, откройте глаза!
«Там, где свободному рынку позволено функционировать, где существуют, пусть не полные, но близкие к полным, равные возможности, простой человек сумел достичь уровня жизни, о котором и мечтать не мог — вот что он утверждает. — Нигде нет такой пропасти между богатыми и бедными, нигде богатые не богаты настолько, а бедные настолько не бедны, как в обществах, где рынку не дают функционировать свободно. Это одинаково верно и когда речь идет о феодальных обществах средневековой Европы, об Индии до независимости, о большинстве южноамериканских стран… Это верно и в отношении общества с плановой экономикой, как Россия и Китай или Индия после независимости. Это верно, даже несмотря на то, что плановое управление было введено в этих трех странах именно во имя равенства»[87].
После Второй мировой в мире возникли два новых международных финансовых института. Почти все страны мира вступили в них, подписав в июле 1944 года соглашения об основании Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития в американском городке Бреттон-Вудс. МВФ и МБРР — который чаще называют «Всемирный банк» — так и стали называть «бреттон-вудскими институтами».
МВФ следит прежде всего за соблюдением правил общей экономической игры. И если у какой-то страны, даже передовой, возникают сложности, если ей требуется проводить реформы, на которые нужны деньги, фонд предоставляет займы. Но даже если займы не нужны (ни Штаты, ни Германия, ни другие страны Атлантики, кроме Великобритании, никогда не просили у МВФ денег), абсолютно все страны — члены МВФ обязаны раз в год отчитываться перед фондом о здоровье своих экономик.
А вот бывшим колониям деньги всегда нужны. С середины прошлого века они пытаются модернизировать экономику, и получается это у единиц. Но дело не только в деньгах. Эти страны в колониальные времена не создали собственного каркаса законов, учреждений, ведомств, которые были бы способны развивать экономику. Нет и каркаса инфраструктуры — железных дорог, портов, аэропортов. На эти цели выдает займы МБРР, или Всемирный банк.
Они работают в паре. Банк ни за что не начнет проект ни в одной стране, если он не вписывается в принципы здоровой рыночной экономики и его не поддерживает МВФ. А Фонд изучает дотошно все показатели экономики стран-членов и время от времени предлагает им комплексные реформы, на которые он готов дать денег. От десятков миллионов для малюсеньких стран до миллиардных займов — для крупных.
Фонд вместе с правительством страны, зашедшей в тупик, составляет программу оздоровления экономики и дает ровно столько денег, сколько нужно для того, чтобы страна продержалась, пока программа не начнет приносить свои плоды. Пока экономика не станет, говоря языком экономистов, самоподдерживаемой.
Большинство программ Фонда для самых разных стран очень похожи друг на друга. Это снижение государственных расходов за счет сокращения функций государства. Снижение инфляции до уровня, при котором производители могут предсказуемо прогнозировать прибыль, а потребители — обеспечивать это производство спросом, вкладывая свои сбережения с более или менее предсказуемым результатом. МВФ всегда требует, чтобы государство не субсидировало цены на железных дорогах, в городском транспорте, в секторе коммунальных услуг. Он требует, чтобы эти услуги предоставлялись по рыночной цене, покрывали себестоимость проезда или обогрева квартир, отражали в издержках производства предприятий реальную стоимость воды и электричества. Часто это означает повышение тарифов в разы. Многие не в силах платить! Поэтому Фонд, как и Фридман, требует от правительств-заемщиков предоставлять адресную поддержку — деньги для оплаты коммуналки, бесплатные проездные билеты нуждающимся, чтобы те могли справляться с новыми тарифами. Почему так жестко ставится вопрос? Очень просто: пока коммунальные услуги и перевозки субсидируются государством, невозможно оценить ни их эффективность, ни их востребованность населением. Может, какие-то линии автобусов просто лишние. А когда все, даже самые неимущие, будут платить полную цену за поездку, мгновенно выяснится, какой транспорт нужен и на каких маршрутах.
Точно по Фридману, МВФ требует ограниченной и адресной социальной помощи. Не строить для всех подряд муниципальные бесплатные школы, а давать нуждающимся пособия на обучение детей, чтобы родители могли выбирать подходящие школы и сами оплачивали обучение. Аналогичный подход и к медицине, и к пособиям по безработице — минимум для безработных, за исключением инвалидов и стариков, чтобы побудить безработных искать работу, пусть даже и не по нраву. Хоть дворником, хоть чернорабочим — рынок сам определит, на что ты способен.
Иными словами, условия вполне однотипны. А голосуют-то за программы не какие-то бюрократы Фонда, а его совет директоров. То есть представители правительств всех стран мира, включая Россию! Либералы, социалисты, рыночники-консерваторы… И всегда совет директоров МВФ поддерживает его программы. Интересно получается… Когда речь о других — все едины в том, что надо жить по средствам, резать функции государства, давая простор рынку. А в собственных странах правительства об этом забывают.
Мало того, что забывают. МВФ в мире ненавидят, до самого недавнего времени он был врагом номер один для большинства стран, и не только бывших колоний. С какой стати Фонд пытается всех грести под одну гребенку? Каждая страна имеет свои особенности, а этому международному институту на них, мол, плевать!
Но в том-то и дело, что при всех изысках тюнинга экономики общие, базовые рецепты ее развития одинаковы! Если страна в кризисе, тюнинг не поможет. Кувалдой приходится работать. Крушить «коллективистские» привычки, отучать от халявы, мириться с временным падением уровня жизни, чтобы начать возрождение экономики на основе экономической свободы. Любители халявы называют это социал-дарвинизмом: дескать, выживает сильнейший. А что, лучше создавать комфорт слабейшим?
Это действительно философский вопрос, и едва ли когда-нибудь сторонникам экономической свободы и «коллективистам» удастся переубедить друг друга…
Вечный поиск врагов и виноватых
Фонду удалось сделать немало. С его помощью произошло возрождение экономик Аргентины и Бразилии, например. Индия, перестав ориентироваться на плановую экономику советского образца, сделала огромный рывок вперед, получив несколько крупных займов от МВФ для поддержки рыночных структурных реформ. Четыре маленьких «дракончика» — Южная Корея, Гонконг, Сингапур и Тайвань — доказали, что финансовая дисциплина и свобода конкуренции способны превратить бывшие отсталые страны в инкубаторы новых технологий и модернизации.
К началу XXI века неприязнь к МВФ поутихла, но вовсе не потому, что были признаны его заслуги. Не были они признаны, МВФ остается для большинства стран врагом, а для россиян и вовсе «Вашингтонским обкомом». Но в Европе появился новый враг, поинтереснее. Евросоюз! Теперь стрелы критики летят в него — он, мол, гребет под одну гребенку страны-члены. Требует, чтобы дефицит бюджетов не превышал 3%, госдолг — 60% ВВП, а инфляция была под контролем.
Уж философию и политику Евросоюза точно не назовешь социал-дарвинизмом. Наоборот, тут разгул коллективистской философии, смешанной экономики и равенства. Курс на выравнивание уровня жизни во всех странах — членах союза. Эта философия основана на вере в то, что общая история и культура Европы вырастила одинаковых человеческих особей, которые разделяют общие ценности и без понуканий будут соблюдать установленные ими же самими правила.
Почти 30 стран упорно строят у себя «социализм с человеческим лицом», особенно преуспела в этом Скандинавия. Жизнь по средствам, бездефицитный бюджет… Правда, подоходный налог 70, а то и 80%. Как вам это нравится?
Милтон Фридман считал Евросоюз красивой, но нежизнеспособной идеей. Еврозону считал ошибкой и в 2002 году предсказал, что она рухнет. Надо быть последовательным, сказавши «а», говорить «б»: если Союз стремится охватить всех своих стран-членов единой валютой, то и регулировать экономику этих стран можно только из единого центра. Либо Евросоюз превратится в Соединенные Штаты Европы, то есть страны ЕС отдадут Брюсселю свой суверенитет, считал он, либо надо останавливаться на зоне свободной торговли, не замахиваясь на общую валюту и единую денежную политику.
Замутили все в 1950 году Франция и Германия, решив, что европейские страны никогда больше не окажутся разделенными линией фронта. Сначала Союз угля и стали, потом Экономическое сообщество. Вслед за этим образование европейской валютной системы, Шенген (1985), Маастрихтский договор (1993), закрепивший идеологию интеграции — передавать все новые функции управления на общеевропейский уровень. Из европейской валютной системы родилась общая валюта — евро (1999). Наконец, договор в Лиссабоне в декабре 2007 года… Прошло десять лет с тех пор, как этот договор превратил ЕС из объединения стран в международно-правовой субъект. Международно-правовой субъект — это же и есть государство! Тут и выяснилось, что мало кто из стран-членов готов поступиться собственным суверенитетом ради красивой идеи.
Нет, кроме шуток, ведь здорово: полная мобильность капиталов, товаров, труда, никаких торговых барьеров и пошлин. Каждый может работать в той стране, где наиболее конкурентоспособен. В итоге у ЕС самый большой ВВП в мире. Всё буквально — по теории Фридмана.
Всё, да не всё. За долгие годы пути к Лиссабонскому договору выяснились, что свободу многие понимают как халяву. Устройство общеевропейского дома на самом деле имеет мало общего с принципами, которые отстаивал Фридман. Бесчисленные фонды и механизмы ЕС постоянно перераспределяют сотни миллиардов евро для постепенного выравнивания уровня развития во всех уголках европейского дома.
Несмотря на это, четыре поросенка (PIGS) — Португалия, Италия, Греция и чуть позже Испания — подложили в общий дом свинью, заявив, что не могут справиться с долгами. Трех приструнили и подкормили, а с Грецией цацкаются до сих пор: как только очередной срок выплат по уже частично списанным и реструктурированным долгам, так у греков истерика. Их, мол, грабят. При этом подушевóй доход в Греции (26 тысяч в год) выше, чем в Румынии, Болгарии и даже России. Заголосила и Италия — от нее требуют сокращать дефицит бюджета и резать социальные программы, которые ей не по карману, хотя ее ВВП на душу населения — 31 тысяча евро в год.
Даже народам самых передовых стран, тесно связанным друг с другом общей историей и культурой, сложно справляться со свободой. В северных странах ЕС с жестокой экономией — в Дании и Скандинавии — уровень жизни существенно выше, чем в южных. Южанам вынести это невозможно. Они, видимо, полагали, что раз сменили лиры и драхмы на евро, то Европейский ЦБ должен печатать для них эти евро в таких объемах, чтобы они жили как люди. Как в Нидерландах или Швеции.
Единая валюта, единый монетарный регулятор — Европейский ЦБ, но при этом каждая страна сохраняет собственную налоговую и бюджетную политику. И даже на принятые пределы бюджетного дефицита и госдолга можно наплевать безнаказанно. Где рычаги единого макроэкономического регулирования, кроме заклинаний? Их нет.
Возможно, нахлебавшись с этим очевидным противоречием, ЕС и мог бы — как всегда, осторожно, в бесконечных дебатах — подобраться за несколько десятилетий к единой налоговой шкале и единым принципам формирования бюджетов. Оставить страны формально суверенными, но фактически превратить суверенитет в фикцию. Теоретически возможно, только это уже вчерашний день. Поздно…
Самую большую свинью общему дому подложили не любители халявы, а маленький, продуваемый ветрами с запада на восток остров. Британский «брекзит» превратил в трэш идею единства, которая сводит самоидентификацию нации только к ее культуре. Британцам всегда этого было мало, они ни в Шенген, ни в еврозону не вступили. Для них фунтики — символ посильнее Берлемона, имперского здания, где сидит штаб-квартира Комиссии Евросоюза.
Последней каплей оказалась проблема мигрантов: она уже и культурную самоидентификацию поставила под вопрос. «Понаехали» поляки, способные строить споро и качественно в отличие от бритов, мало на что по этой части способных. Вот-вот могут и лица «североафриканской национальности» появиться. Какая уж тут свобода оставаться истинным британцем, не правда ли?
Европолитики шли к Лиссабонскому договору больше полувека. В долгих дебатах добивались согласия по каждому пункту. Одно забыли — человека. С его эгоизмом, сентиментальностью, а еще и завистью. С его неприятием коммуналки, где на общей кухне тебе тычут в глаза более густой похлебкой соседа, а кое-кто вдобавок пытается приваживать к общему дому беспризорников.
Посмотришь на ЕС и понимаешь, что трудно строго судить россиян за то, что у них каша в голове. Даже население самых передовых стран не свободно от брака мышления. Правда, надо заметить, что никто — ни из передовых, ни из развивающихся — не ставит себе такую странную задачу: быть великой страной. Похоже, у россиян именно с этим деликатным моментом — с величием — крайне сложные отношения.
Отсюда и непоследовательность, и смятение душ, которым хочется и достатка, и защищенности, отсюда и коктейли из несмешиваемых ингредиентов — типа того, что жить хочется как в Скандинавии, но без «полицейского государства», как в Германии, но чтобы государство всех защищало и чтоб без неравенства. И еще чтоб впереди планеты всей… А какой может быть двигатель у такого странного автомобиля — об этом пусть у государственных мужей голова болит. Ах, она у них не болит? Ну так, значит, всё плохо… Всё очень плохо. Вот вам и апатия, и уныние, и нежелание оторвать зад от дивана не только ради выборов, но даже чтобы цветник под окном разбить…
Как дочь бакалейщика спасла королевство
Если обычный человек хочет понять устройство общества, что ему делать? Ученые книги читать? Так там столько наворочено за десятилетия, не разобрать. Слушать рассуждения экспертов в ящике — мозги закипают: «Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном», выражаясь словами героини чеховского водевиля. А если попробовать собственным умом, на уровне здравого смысла? Не идти за толпой, не повторять за другими того, чего сам толком не понимаешь, а просто не бояться думать своей головой. Оценивать устройство общества на уровне добра и зла. Ведь его самые главные вопросы стоят именно в нравственной плоскости: должно ли государство служить человеку — или, наоборот, достойны ли деньги уважения — или успех дурно пахнет…
Такой мыслительный путь прошла Маргарет Тэтчер. Ее никак не назвать теоретиком, у нее не было даже обществоведческого образования. Но в ее стране в то время, когда она выбирала свой путь в жизни — в 1950-х, — царил такой хаос, что ей было необходимо в нем разобраться, и она пошла в политику. Разобралась. Сама. И решила, что способна привести в порядок и экономику, и мозги соотечественников, ведь корни хаоса всегда именно в головах.
Anarchy in the UK! — сингл группы Sex Pistols 1976 года — держался в хит-парадах несколько лет. Зимой 1978-го в Британском королевстве его распевали на всех углах, называя насилием буквально всё. Отбор в колледжи — государственное насилие. Бедность — социальное насилие. Конкуренция — экономическое насилие. Видя беспомощность государства, британцы решили, что они сами вправе устанавливать правила. Через год Тэтчер станет премьером…
Та зима была кошмарной. На улицах — груды мусора. То и дело отключают электричество. Закрываются школы, детей отправляют по домам. Бастуют угольщики, нефтяники, металлурги, не поставляется топливо даже в дома престарелых. Пикеты забастовщиков оцепляют больницы, не пуская на работу врачей, не пропуская машины с лекарствами: профсоюзы пытаются поднять народ на всеобщую забастовку. Раковые больные умирают дома в мучениях из-за отсутствия медицинской помощи. В телевизорах «картинка» нечеткая, порой по ней пробегают полосы.
Этот взрыв анархии был неизбежен, целых 30 лет копились болезни общества. Забастовки уже давно называли «национальной английской болезнью», а профсоюзы к концу 1970-х свалили уже не одно правительство. Лейбористы убеждены в прелестях социализма и идут на поводу у профсоюзов, а тори — партия консерваторов — не смеют и пикнуть, настолько сильны социалистические настроения в стране. И самая большая ирония в том, что при этом не только консерваторы, но и лейбористы — выходцы из английской аристократии, другим в политику ход заказан. Ни одному политику Британии не удалось бы усмирить воинствующих пролетариев — народ никогда не дал бы аристократам такого права, да у и них самих рука не поднялась бы.
А Маргарет Тэтчер, в девичестве Робертс, — простолюдинка! Ее отец — бакалейщик и местный пастор в провинциальном городке Грантем, в так называемой «срединной Англии». Она упорно и долго карабкалась по политической лестнице, была белой вороной среди представителей верхов, которые монополизировали политику страны. Только у такой, как она, было моральное право на решительные действия.
Всю жизнь Маргарет думала исключительно собственной головой, она не подстраивалась под народ, наоборот, была, скорее, чопорной, всегда безупречно одетой. Но говорила-то она с народом на одном языке, всегда была предельно конкретной, апеллировала к простым и понятным вещам, к трудностям повседневной жизни. И всегда, неизменно она обращалась к нравственной сути любых проблем. Она заставила других таких же простых людей включить наконец мозги, показала своей нации, откуда берутся деньги, и вернула в экономику здравый смысл.
Мадам премьер шла к вершине политического олимпа 30 лет. Боролась именно за умы людей, зная, что надо выиграть битву идей, прежде чем рассчитывать на выигрыш в политике. У нее было мало союзников. Даже в собственной Консервативной партии ее называли неуправляемой ракетой. А она повторяла: «Страшно не упасть, а не уметь подняться». Она училась на ходу — всю жизнь, постоянно…
Маргарет Робертс поняла азы экономики еще в детстве, в лавке своего отца, где торговала после занятий в школе. Она была консерватором в политике, либералом в экономике. А самое главное — она была дочерью методистского пастора, и для нее было неоспоримой истиной, что человек рожден для упорного и тяжкого труда. Все остальное проистекало именно отсюда…
«Всем лучшим в себе я обязана отцу»
Послевоенный период в Европе можно понять, только помня о методах управления экономикой во время Второй мировой. В каждой стране личные интересы были принесены в жертву общественному благу. Население шло на это ради победы над нацизмом. Каждое государство сумело мобилизовать нужные для победы ресурсы командными, административными методами. Успешнее всех это сделал СССР, это было очевидно всем. Сила социалистических представлений во всех странах Европы в 1950-1960-х была колоссальная.
И тем не менее Германию, самую измордованную войной страну, Людвиг Эрхард сумел уже на рубеже 1960-х поставить на рельсы свободного капиталистического рынка, оседлав идеи социал-демократов и встроив лозунг «благосостояние для всех» в систему рыночных законов.
Политики же Британии запутались в словесном тумане. Они открыто говорили о преимуществах социалистической системы: «красный зверь», который захватил пол-Европы, конечно, ужасен, но разве нельзя обеспечить занятость и равенство, не скатываясь в тоталитаризм? Они множили количество разных пособий, сдерживали безработицу за счет искусственного создания рабочих мест в госсекторе, который в 1960-х составлял почти 60% экономики. Профсоюзы чуть что — поднимали людей на забастовки. Требования населения к государству только росли, а лейбористы придумывали все новые государственные функции, обещая позаботиться о каждом. Государство должно гарантировать защиту всех граждан «от колыбели до могилы» — и работающих, и безработных, и младенцев, и пенсионеров. А как за все это платить?
Виток за витком повышались налоги, государство национализировало нерентабельные предприятия, чтобы не допустить их банкротства — ведь увольнения недопустимы! Едва консерваторы пытались ограничить рост заработной платы, чтобы притушить инфляцию, тут же начинался новый спад экономики, и надо было снова стимулировать спрос. Государственные расходы росли, а инвестиции государства в отрасли, теряющие конкурентоспособность, не приносили отдачи.
Жан-Луи Тьерио, автор одной из множества монографий о Маргарет Тэтчер, так писал о периоде 1950-1970-х в Великобритании, который лейбористы называли «тридцатью годами славы»:
«С 1950-х по 1970-е годы прирост экономики составлял в Англии 2,2% в год, в то время как во Франции он достигал 4,6%, рост производительности составлял 2,3% в год… а в странах Европейского содружества [название будущего Евросоюза в тот период. — Прим. авт.] он достигал в среднем 4%. По уровню ВВП на душу населения Соединенное Королевство скатилась с 9-го места в 1961 году до 18-го места, уступив даже Новой Зеландии. Англия переживала спад в экономике и находилась в состоянии упадка… — продолжает Тьерио. — Триада — администрирование, налогообложение и инфляция — явно неспособна была выиграть партию на международной шахматной доске…»[88]
Маргарет Робертс провела детство, торгуя крупами, чаем, пряностями, которыми был полон магазин ее отца на углу двух главных улиц Грантема. Предвоенные и военные годы… «Весь мир стекался в лавку моего отца», — повторяла она позже. Уж в лавке трудно было не понять, откуда берутся деньги. Она своими глазами видела, в чем благо конкуренции и свободы рынка. Что стоил бы ее городишко Грантем без бакалейной лавки ее отца, без мастерских и мелких фабрик, где люди тяжелым трудом зарабатывали свои деньги, но именно они позволяли соседям иметь все необходимое — от хлеба и молока до ниток и тканей — даже в самый разгар войны.
В ее детстве было мало игрушек, зато много книг. Не романов, а книг полезных, которые отец каждую неделю выбирал в библиотеке и читал вместе с дочерью. Книга должна давать пищу уму, считал он. Ведь он был не только лавочник, но и пастор. Мэгги с детства усвоила, что грех зарывать свои таланты в землю, а самый верный способ выразить почтение Господу и спасти душу — это отдавать труду все лучшее, что есть в тебе. Позднее она пробовала читать умные книги, и они приводили ее в недоумение: что за странное понятие «эксплуатация», ведь человек рожден именно для упорного труда.
Можно сказать, унылая жизнь… Девочка с наслаждением уносилась в киношный мир, ее манила колдовская улыбка Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», но сказки не могли отвлечь от главного. Зрели притушенные воспитанием страсти и амбиции: ее путь только в Оксфорд или Кембридж.
Последний год войны. За спиной — заурядная школа заурядного городка. Маргарет не могла похвастаться ни происхождением, ни связями, необходимыми для приема в элитные университеты. Лучшие колледжи Оксбриджей — Оксфорда и Кембриджа — семье не по карману. Ничем не примечательный Саммервилл-колледж в Оксфорде предложил ей стипендию, и этот шанс нельзя упустить. Берут учить на химика, ну и ладно, по крайней мере эта профессия может прокормить. Но счастливой себя она не чувствовала, понимая, что химия не поможет ей найти свое место в жизни.
Маргарет то принималась петь в хоре, то пыталась влиться в шумные студенческие вечеринки. Не чуралась алкоголя и флирта, даже очаровала одного баронета. Ненадолго, надо сказать… Мамаша баронета была шокирована простонародным акцентом и напором провинциальной девицы.
Среди студентов города Оксфорда Маргарет тоже оставалась чужой, робкой и одновременно чопорной провинциалкой, одетой в платья из безупречных тканей, но безобразного покроя. Она выделялась прямолинейностью в этом царстве недомолвок и тонких шуток, ей недоставало легкости, раскованной элегантной субтильности, которой нельзя научиться, а можно только унаследовать. Ее уважали за трудолюбие, ценили за то, что на нее всегда можно положиться, но чаще подсмеивались. Она уже поняла, что ее место в политике, работала в студенческой консервативной организации. Но когда она принималась рассуждать о свободе торговли и конкуренции или о том, что высшее воплощение нравственности — награда человека за труд, эти очевидные для нее истины вызывали у ее соратников по партии насмешки.
А она повторяла себе слова отца: «Никогда не делай чего-то только потому, что другие это делают. Никогда не иди за толпой». Это были стальные принципы, которые вооружают человека и заковывают его в латы, давая силы преодолевать трудности, развивая стойкость и помогая сохранить цельность среди гвалта и суматохи. Эти принципы давали Маргарет убежденность в своей правоте, а значит, свободу и абсолютный нонконформизм[89].
Безнравственность Государства-Провидения
В ходу у лейбористов на рубеже 1950-1960-х был слоган: они создали «Государство-Провидение». Для Маргарет это понятие звучало полной глупостью. Как государство может лучше самих людей знать, что для них благо? Тем более что и благ-то особых не наблюдалось. Только в конце 1950-х годов, позже, чем в других победивших странах, в Британии отменили карточки. В очередях на получение социального, то есть доступного, жилья стояли миллионы людей. Причем только для того, чтобы это жилье снять! Получить не в собственность или в пожизненное владение, как в Советском Союзе, а внаем! Скудная была жизнь в Британии.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что ничего не меняется. Вечная снобистская Англия, в которой каждый — и бедный, и богатый — проживает жизнь, как предопределено Провидением, ни на что не жалуясь. Но это была видимость. В реальности Англия — та самая страна, изучая которую Маркс открыл законы капитала, — уже четверть века пыталась отменить их действие.
Конкуренция регулируется, чтобы не допустить конкуренции нечестной. В результате все больше тормозится технический прогресс. В 1950-х, когда Маргарет Робертс учится в университете, это еще незаметно, но уже через 15 лет гордость британского автомобилестроения Jaguar, Land Rover, Bentley, Lotus примутся скупать немцы, индийцы, малайзийцы.
Профсоюзы насчитывают 14 млн человек — больше трети населения страны, даже если считать с престарелыми и младенцами. Постоянные забастовки и требования роста зарплат. При этом профсоюзы обращают свои требования не к собственникам предприятий, а почему-то к государству! А потому, что государство так себя само поставило: сочло своим долгом влезать в отношения между капиталистами и рабочими, причем, ясное дело, не на стороне капиталистов. В итоге какова «естественная цена рабочей силы» — особенно с учетом забастовок, то есть простоев и потерь, — вообще непонятно.
Лейбористы полагают, что переговоры государства с профсоюзами и есть социальное партнерство, но, простите, партнерами могут быть только равноправные субъекты — предприниматели, рабочие, служащие, «партнерство» же с государством — это игра в кошки-мышки. Правительство поднимает зарплаты, но никто не отдает себе отчета, что в такой же пропорции растут и цены. Ведь товаров больше не становится, раз все бастуют, а спрос с каждым подъемом зарплат растет. Государство уверило себя, что это чисто по Кейнсу, и особо не горюет, что инфляция уже достигает 12-13% в год.
В результате масса частных предприятий терпит убытки. Где прибавочная стоимость капиталиста? А кто его знает! Рабочим платят не по рынку, а как велело государство. А профсоюзы требуют все больше.
В ответ государство решает, что ему надо еще и предприятиями руководить. Идет ползучая национализация, причем скупаются прежде всего больные предприятия. Дело доходит до того, что в крупных госкомпаниях инвестиции в производство свыше 5 млн фунтов требуют разрешения профильного министерства, а на поддержку предприятий страны государство тратит в год по 6-8 млрд фунтов.
Какой Кейнс, сплошной социализм! Но и ничего марксистского в устройстве экономики Британии нет, как, впрочем, нет его и в экономике никакой другой страны, решившей убить свободный капитал. Маркс писал о каком-то постоянном капитале, переменном капитале, о том, как ведет себя норма прибыли. Все это забыто!
Государственная монополия и регулирование все больше смахивают на Великий строй. С одной лишь разницей — британские партии твердят о «красной заразе» и почему-то убеждены, что охраняют свободное общество. Какая свобода, если везде монополия государства, если власть на пару с профсоюзами контролирует и заработную плату, и цены? Государственные расходы растут, объем производства топчется на месте, качество товаров падает. На железных дорогах поезда ходят не по расписанию, а как получится. Государственная почта теряет почту. Государственные предприятия страны даже в нефтедобыче все больше отстают по производительности от Европы.
Чисто английская мешанина из псевдомарксистских и кейнсианских идей. Брак мышления made in Great Britain.
К окончанию университета Маргарет вполне сложилась как волевая и амбициозная личность. В поисках работы она явилась на собеседование в один из химических трестов. В кадровой службе треста об этом визите осталась запись: «Эта девушка слишком сильная личность, чтобы работать в нашей команде». Она устроилась в неприметную химическую лабораторию, где люди, их отношения, отсутствие жизненных амбиций казались ей убогими. Все вечера и выходные дни она отдавала политике.
Лейбористские обещания заботы о каждом казались Маргарет верхом лицемерия. Ее убеждения были прямо противоположны: человек должен действовать самостоятельно, это главное. Ему надо дать шанс раскрыть свои таланты, добиться успеха. Бог с ними, с лейбористами, это политические оппоненты. А вот что себе думает ее собственная Консервативная партия, Маргарет Робертс было совсем непонятно. Консерваторы шли на поводу у лейбористов, повторяли все те же идеи насчет заботы государства о каждом от колыбели до могилы, считая, что из сознания англичан эти представления не вытравить. В результате они все больше теряли собственное лицо.
По идее консерваторы — носители классического либерализма: общество основано на свободе рынка. Но социалистический окрас послевоенного понятия «либерал» был в послевоенной Британии еще сильнее, чем в Германии и всех остальных странах Атлантики. Да, консерваторы не призывали к социализму, пытались держаться за Кейнса. Но даже его рецепты приобретали у них красноватый оттенок. Как и лейбористы, консерваторы твердили, что экономику могут поднять лишь бюджетные вложения — ведь Кейнс именно так говорил… Государственное планирование? Они только за, рынок — это сплошной хаос, посмотрите, как мощно движется вперед СССР и весь Восточный блок!
Понятно, что из этого коктейля идей последовательная экономическая политика не родится. Непонятно только, как простая девчонка Мэгги Робертс сумела это понять. Она просто не мудрствовала лукаво, а держалась принципов, однажды усвоенных. Здраво заключала, что консерваторы поют на лейбористский лад, только у них получается хуже.
Консерваторы еще помнили, что отстаивают интересы бизнеса, но видели задачу не в том, чтобы дать ему простор, а все пытались сформировать такой государственный план развития, в котором корпорации чувствовали бы себя комфортнее, чем в рамках программ лейбористов. Забыв или просто не ведая, что именно такую экономику построили нацисты в 1930-х. Даже лидер консерваторов, великий Уинстон Черчилль, вернувшись во второй раз во власть в 1951 году, не представлял, как изменить ситуацию. Нация прочно уверовала в идею управляемой экономики, и идейно противопоставить себя лейбористам казалось для тори самоубийственным.
Мэгги доказывать обратное в собственной партии не собиралась — пустая трата времени. Надо действовать. Она выдвинулась кандидатом в члены парламента от самого гиблого округа, который ей и достался лишь потому, что никто из уважающих себя партийцев-консерваторов на него не позарился. В Дартфорде, где дымили трубы двух крупнейших химических комбинатов, у консерваторов шансов не было.
У молодой, элегантно одетой женщины их тем более не было, но Маргарет была твердо намерена достучаться до сознания работяг. Она обошла все дома, зная, на сколько подорожал фунт хлеба и ростбифа, пинта молока и коробка чая. Предельно просто объясняла людям устройство общества, как сама его понимала. Все же ясно! Нельзя душить предпринимателя. Он лучше, чем государство, обеспечит рабочих продуктами по доступным ценам, ведь он всегда конкурирует с себе подобными. Инфляция — враг здоровой экономики: если растут цены, люди требуют роста зарплат. Оплачивать их, не залезая в долги, невозможно, выход один — сокращать расходы государства. «Что тут непонятного? — спрашивала Маргарет Робертс домохозяек. — Вы-то сами всегда живете по средствам».
И тогда, и позже Маргарет занимала в своей партии крайне правую позицию, но чувствовала себя превосходно: она отстаивала то, во что верила. Причем в выражениях не стеснялась — она такая же простолюдинка, как и ее избиратели, к чему политическое фиглярство. Повторяла: «Мы верим в свободу западного образа жизни. Если мы будем следовать по этому пути упорно и с верой в сердце, нам нечего бояться коммунистической России!»
В парламент она, конечно, не прошла, но даже в сугубо рабочем округе сумела подорвать лейбористское влияние. О Маргарет и «дартфордском феномене» заговорили на всех уровнях, а жители почувствовали, что благодаря этой бескомпромиссной женщине их городишко теперь нанесен на карту страны.
И через пару лет, снова баллотируясь от Дартфорда, она не получила депутатский мандат, но в отчаяние от этого впадать не собиралась. Маргарет медленно, но упорно набирала очки в своей партии. Становилась популярной. Она не читала избирателям лекции по экономике, а рубила сплеча — это нравственно, а это безнравственно. Рассуждала на уровне понятий о добре и зле.
Каждый человек обязан заботиться о себе сам. Коллективистские иллюзии не просто вредны, они безнравственны. Государство обязано поддерживать слабых, больных и старых, но все остальные должны сами искать свою дорогу к деньгам. Для этого каждому надо дать свободу развивать свои способности. А всем вместе нужна предсказуемость будущего, отсутствие инфляции, иначе кто же будет вкладывать деньги. Никто — ни в собственный бизнес, ни в сбережения.
Ни в одной стране Атлантики кризис национального сознания не был таким сильным и затяжным, как в Британии. Маргарет Робертс была терпеливым доктором и педагогом…
Неравенство — благо, и компромиссы тут неуместны
Неравенство всегда было оплотом общества и мировоззрения британцев. Земли даровали монархи, покупка дома или квартиры фактически означает лишь их аренду у лендлордов — на 100 или 150 лет, но все равно не навсегда. Подвальные этажи — вполне достойное место проживания, вспомните героев Диккенса или Элизу Дулиттл, «прекрасную леди». Каждый проживает жизнь на отведенной ему ступени социальной лестницы, ни на что и никогда не жалуясь. Сословное неравенство естественно.
Маргарет на него и не покушалась, она была истинной британкой. Но она была уверена, что двигателем развития является неравенство совсем другого толка — в способностях и трудолюбии. Желание человека выделиться среди остальных, преуспеть — вот что движет экономику. Это, пожалуй, было ее главным убеждением, без него не понять и суть ее политики на посту премьера.
«Что стоят способности человека, врожденные и развитые, если у него отнять возможность выделяться среди других» — крылатый афоризм Тэтчер. Для нее равенство — это только равное право каждого развивать свои таланты. Оно не имеет никакого отношения к социальной справедливости, то есть к сокращению дистанции между богатыми и бедными.
Ей было плевать, что нищала английская аристократия, не желавшая по уму использовать свои нетопленые замки и поместья, которые были пригодны лишь для праздных охот на несъедобных лис. Но ей было далеко не все равно, что те, кто создает больше общественного богатства, почему-то платят самые большие налоги.
Есть люди большие и маленькие, толстые и худые, одаренные и тупицы, трудолюбивые и бездельники. И никто никогда с этим ничего не сможет поделать. А делать с этим ничего и не нужно. Когда Тэтчер станет премьером, она примется реформировать систему образования страны именно в этом направлении: школа обязана дать каждому возможность раскрыть свои таланты, не оставлять на краю знаний детей из бедных семей. А все остальное человек решает сам.
В 1951 году, в разгар предвыборной борьбы в Дартфорде, Маргарет вышла замуж. Весьма удачно! Дэнис Тэтчер, успешный предприниматель, гольфист, охотник, любитель парусного спорта, был вхож во все закрытые клубы английской знати. До встречи с Маргарет он уже нахлебался и от первой жены, и вообще от барышень из хороших семей с их безупречными манерами и врожденной английской неискренностью аристократок. Его привлекла прямота и надежность Маргарет Робертс, ее ясные цели, неумение лукавить.
Дэнис Тэтчер открыл жене двери в высший свет, но для нее это никогда не представляло большой ценности. Маргарет по-прежнему чувствовала себя простолюдинкой, только теперь перестала этого стесняться. Она оставалась дочерью бакалейщика и местного пастора, на какую бы ступень социальной лестницы ни поднималась. Отец уже дал ей основу для понимания жизни: благо, которое несет человеку свободный труд, собственный путь к деньгам и успеху. «Добрый самаритянин потому и мог помогать другим, что сам сумел преуспеть, своим трудом заработав денег», — заявила она в одной из речей[90].
Вскоре у нее родилась двойня — Кэрол и Марк. Мать отдает им пять лет жизни. Как всегда, без остатка. Но когда в 1958 году она возвращается в большую политику, дети отходят на второй план. Завтрак и выходные — вместе, по вечерам непременный звонок домой в шесть вечера — узнать про детские дела и заботы — и поцелуй перед сном. Если успеет вернуться, пока дети еще не заснули…
Маргарет Тэтчер снова баллотируется в депутаты. На этот раз в округе, который в ее партии считался «округом последней надежды». Вероятно, в 1958 году район Финчли и был таковым. В него входили два крупных городских поселка — Финчли и Фрайерн-Барнет, и простирался он вплоть до лесопарка Хэмпстед-Хит. Респектабельные лондонские пригороды, населенные представителями среднего и верхнего среднего класса. Они уже осатанели от высоких налогов, которые ни за что ни про что перераспределяли созданное их трудом в пользу бедных. Тут были в чести семейные ценности и привязанность к собственному дому. Иными словами, в Финчли пользовались уважением все три ключевые элемента тэтчеровской морали: собственность, знания и чувство долга. Осенью 1959 года Маргарет стала депутатом парламента. Она оставалась верной своему округу Финчли до конца политической карьеры, так же как оставалась верной своим убеждениям о том, что есть добро и зло.
Все 1960-е она борется за место под солнцем в палате общин. Работает по ночам, вникая в детали и цифры, разбирая то бюджет министерства образования, то государственный бюджет, до тонкостей изучает работу казначейства — этого аналога министерства финансов, — чтобы наутро в Вестминстере обрушить на головы оппонентов шквал убийственных аргументов. В 1964-1970 годах она поочередно отвечала за работу с министерствами пенсий и социального страхования, жилищного строительства, экономического развития, поработала как теневой министр энергетики, затем транспорта, а потом и образования. Бесстрашно встревала во все дебаты и споры, если считала себя не вправе молчать. В мемуарах она пишет, как обожала адреналин парламентских свар, говоря себе: «Давай, Мэгги, ты совершенно одинока. Никто тебе не поможет». Это ей нравилось[91].
За семь лет Маргарет Тэтчер сменила шесть министерских портфелей и уверилась, что способна заниматься любой проблемой. Она ставит себе немыслимую задачу — возродить свою партию. Консерваторы окончательно приняли философию оппонентов — мягкий социализм в виде смешанной экономики. Для страны это гибельно, для партии — самоубийственно: поиск компромиссов с идейными оппонентами — заведомо проигрышный путь.
Политикам компромиссы кажутся умелым маневрированием, непременным условием успешной политической жизни. Маргарет и в этом была белой вороной. Она всегда отстаивала собственные взгляды прежде всего с позиции их морального превосходства. Свободное общество капитала более нравственно, чем система, где государство стремится к расширению своего контроля. Контроль рано или поздно приводит к коммунизму или фашизму — для Тэтчер не было особой разницы между этими системами. Обе тоталитарны. Обе закрывают путь людям к свободному выбору, к умению думать, закрывают и путь к деньгам.
Бескомпромиссность — далеко не всегда упрямство и упертость. Ведь Маргарет Тэтчер не стремилась искать золотую середину, на которой скрепя сердце все могли бы сойтись. Ей, как и Милтону Фридману, надо было встряхнуть своего избирателя, заставить его сделать собственный нравственный выбор. Неравенство — вместо псевдоравенства, которое рано или поздно вырождается во вранье уравниловки. Поощрение успеха человека — вместо контроля государства, который рано или поздно приобретает все больше черт тоталитарного общества. Она апеллирует все к тем же понятиям добра и зла.
Осторожно, налоги!
На конференции Консервативной партии 1966 года Тэтчер обрушилась на лейбористскую политику высоких налогов, называя ее «шагом на пути не к социализму, а к коммунизму»[92]. В это время ставка налогов для «слоев с высшими доходами» составляла 45%, и начинались эти «слои» отнюдь не с миллионеров. В них попадали инженеры, писатели, художники, владельцы мелких и средних производств, жившие в ее собственном округе. Едва перевалив через планку 100 тысяч фунтов в год, они отдавали 45 пенсов с каждого следующего фунта ненасытному государству…
А вот в России самая низкая налоговая ставка в мире — 13%, причем плоская, для всех единая. Время от времени политики вяло поговаривают — Кудрин, например, — что неплохо было бы поднять подоходный налог до 15%, а на верхние слои населения и до 20%. Но не поднимают, потому что уж пусть лучше платят 13%, чем не платят те 35%, которые существовали в 1990-х. И вообще налоговую шкалу лучше не трогать. Такое минное поле…
Всех эти 13% устраивают, что совершенно непонятно, раз народ только и твердит о возмутительном неравенстве. С одной стороны, десятки миллионов людей едва сводят концы с концами, покупая лежалые продукты в самых дешевых магазинах. С другой — владельцы яхт и вилл в России и в Европе, не задумываясь, отдают 20 и даже 120 тысяч рублей за бутылку коллекционного вина в ресторане. Но дело даже не в справедливости, хотя голова у людей болит главным образом о ней, как обычно. Глубже надо копать. А как копать, если налоги — это минное поле?
Задумайтесь только — ведь у нас нет не облагаемого налогом минимального дохода. Это как? То есть, если вы заработали в месяц 500 рублей, вы уже должны поделиться с государством. Вот где нонсенс! Людей с доходом 15-30 тысяч рублей в месяц в стране десятки миллионов. Они покупают самый минимум товаров. Вот же, прямо перед глазами, огромный резервуар повышения совокупного спроса! Освободите этих людей от налогов, увеличение их спроса даст огромный импульс развитию товаров народного потребления, а по цепочке — и смежным отраслям.
Постойте, а как же бюджет, который трещит по швам? Погодите пока с бюджетом. Мы же хотим превратить страну из отсталой в развитую, разве не так?
Кроме введения не облагаемого налогом минимального дохода, нужно отменить или снизить еще и кучу налогов на производителей — тут и акцизные, и таможенные сборы, и налог на фонд заработной платы, и на имущество компаний, и на прибыль. Простых граждан они особо не заботят, но компании задыхаются. Они не инвестируют в производство, а все норовят вывести деньги из страны и вложить где-то, где налоговый режим получше. При таком оброке на предприятия, как у нас, невозможно возникновение главной опоры любой экономики — многочисленной прослойки средних предприятий, Mittelstand, они не выдержат обилия налогов.
Так, а что же бюджет? Даже если обложить драконовскими налогами владельцев яхт и вилл, эти деньги не компенсируют потери от отмены налогов на слои с самым низким уровнем дохода, а в придачу к ним еще и части налогов на предприятия. Выходит, нужна дифференцированная шкала налогов в отношении всех групп населения? К примеру, ноль налогов при доходах до 40 тысяч рублей, нынешние 13% для людей с доходами 41-100 тысяч рублей в месяц, 15% для следующей группы, 20% — для еще чуть более состоятельных… Это не расчеты, а лишь иллюстрация идеи о том, что залезать в карман придется ко всем.
Зачем городить такой огород? С одной целью: дать возможность населению увеличить общий спрос, дать возможность предприятиям его насытить и самим на этой основе подняться. Так, а с бюджетом-то как? А тут только два взаимосвязанных подхода…
Снижать госрасходы — начиная с массы неэффективных программ поддержки экономики, которая себя вполне сможет поддержать сама, и кончая запутанными трансфертами между федеральным и региональными бюджетами, не говоря уже о расходах на содержание госаппарата. Причем зарплату чиновникам надо не снижать, а наоборот, повышать, просто чиновников должно быть намного меньше. Как говорил Милтон Фридман, государство набрало себе столько функций, что ни с одной не справляется…
И терпение. Перекручиваться, временно увеличивать государственные долги, понимая, что увеличившийся спрос и импульсы развития предприятий не за одну ночь дадут результат в виде увеличения общей массы налогов, но и десятилетия на это тоже не потребуются.
И самое малоприятное, что этот огород городить можно только на время, потому что налоги не могут служить постоянным рычагом развития. Налоги — это рычаг именно перераспределения доходов, инструмент сглаживания неравенства. И с этой точки зрения вопрос, какой налог лучше — прогрессивный или плоский, превращается в вопрос нравственности.
Не раз у меня были долгие беседы с европейцами, которые в принципе отрицают плоский налог. Понятно, что современные европейцы сплошь социалисты, но у них всего два аргумента в пользу прогрессивного налога.
Первый — прогрессивная шкала налогов справедлива. Ни Фридман, ни Рэнд, ни Тэтчер с этим, положим, не согласились бы. Что справедливого в том, что люди, которые производят, а значит, и получают больше других, должны тащить на своем горбу бездарных и ленивых? На это европейцы-социалисты отвечают примерно так: раз природа и родители дали одним больше способностей и талантов, они должны поделиться с менее даровитыми.
Второй аргумент — прогрессивное налогообложение не лишит способных и даровитых стимулов к труду. Способные и даровитые, дескать, трудоголики и при повышении налогов трудиться не перестанут.
К чему такое отступление? Чтобы попробовать объяснить весьма непростую вещь: прогрессивная шкала оправдана только в крайних случаях, как сегодня в России, когда надо перетрясти пропорции спроса и предложения, столкнуть процесс развития с мертвой точки. Когда же рынок и костяк сильных средних предприятий уже сложились, а десятки миллионов выкарабкались из бедности, плоская шкала более эффективна — она стимулирует конкуренцию и мотивирует людей зарабатывать деньги. Просто сегодня в России, где все и всегда делается не совсем в правильный момент, плоская шкала — еще недоступная роскошь.
А в Англии 1970-х недоступной роскошью была именно прогрессивная шкала. Почти половина населения платила налог уже 50-60%. Как это сдерживало общий совокупный спрос! Кейнс прослезился бы при виде того, как лихо соотечественники перелицевали его теорию! На эти деньги государство содержало огромные массы людей, которые не помышляли упорно трудиться — рабочих мест нет, зато пособия платят исправно. Как раз в Британии того времени налоги не решали ни задачу развития, ни задачу перераспределения: распределять уже было нечего. Надо было просто начать производить.
Для Тэтчер речь шла не о владельцах яхт и поместий, а о тружениках срединной Англии. Они могут захотеть работать от зари до зари, а могут и не найти в себе достаточной воли, чтобы предпринимать такие усилия. В особенности если часть этих усилий пойдет на благо такому же заурядному соседу, который палец о палец не стукнул, чтобы приподняться над собой.
«Мы не можем платить безработной женщине больше, чем работающей», — чеканила она в парламенте. «Государство-Провидение» лейбористов Тэтчер называла «чудовищной системой». «Лейбористское правительство сделало свой выбор в пользу тех, кто не работает, — заявляла она, — забыв о тех, кто хочет честно зарабатывать свои деньги».
Государству не место на рынке. «…Только рынок может устанавливать цены и определять уровень заработной платы, только рыночные отношения способны определять самые рентабельные и доходные отрасли, а не чиновники, удобно устроившиеся за стенами Уайтхолла»[93]. Ее партия повернулась спиной к собственным ценностям — здоровым финансам, конкуренции и свободе предпринимательства. Эта потеря лица была настолько явной, что толкала Маргарет к внутрипартийному перевороту.
От лидерства в партии до лидерства в стране
Когда Маргарет заявила мужу, что будет бороться за пост председателя партии консерваторов, Дэнис счел, что жена сошла с ума. Простолюдинка, не говоря уже о том, что женщина, хочет поставить под знамена своих нехитрых истин монолитный клуб английских тори, считающих себя сливками сливок общества?!
Начало 1970-х… Англия погружалась во все больший хаос, но это был тот самый ветер, который дул в паруса миссис Тэтчер. В ноябре 1972 года правительство приняло «роковое решение» о замораживании цен и заработной платы на 90 дней, чтобы сдержать инфляцию, достигшую уже 17%. Это означало конец свободного рынка, а уж для консерваторов, которые в тот момент были у власти, было актом самоубийства: тори стали проводить политику лейбористов. «И уже не важно, был ли кризис и в самом деле глубок, но само общество вдруг предстало в виде тяжелобольного…»[94]
Зрели перемены. Твердые консерваторы все громче стали говорить, что путь страны выстлан 30 годами добрых намерений и череды провалов. Маргарет Тэтчер в предвыборной речи на пост лидера Консервативной партии поставила свой диагноз «Государству-Провидению»: «Истинная проблема состоит в проникновении политики в те сферы, где ей совершенно нечего делать».
Вместе с горсткой соратников Тэтчер доказывает, что единственно верное решение — проведение безотказной, достойной доверия монетарной политики. Перестать печатать деньги для оплаты экзотических социалистических прихотей. Например, во время забастовок государство продолжает платить рабочим пособие — это как?! В экономике исказились все пропорции, исчезли ориентиры — что, как и за сколько производить, поскольку при такой инфляции этого не определить, нужен контроль за денежной массой. Обнаглевшие профсоюзы должны понять, что, постоянно требуя денег, они убивают рабочие места: зарплата может определяться только производительностью труда. Да, будет временная безработица, придется туго. Но нужно дать естественным законам простор, они сами все поставят на свои места. Накануне своей победы в борьбе за пост председателя партии она бросает знаменитую фразу: «Работяг — поднять и поставить на ноги, лодырей — вон!»
Но лидерства в партии ей мало — она же борется за свой народ, а не за должности. Ей нужно, чтобы партия, в которой она теперь играет первую скрипку, победила на выборах. Весной 1979 года Тэтчер пошла в наступление.
Она заявила, что профсоюзы вольны вести переговоры с компаниями сами, не впутывая в это дело правительство. Обратилась к ним напрямую, что было в те времена неслыханно: «Вы сами себе худшие враги. Требуете, чтобы государство регулировало продолжительность рабочего дня, ваши условия работы, следило за ростом ваших зарплат. Вы лишаете себя тем самым единственного, что вы можете продать, — вашей производительности»[95]. В интервью БаИу Telegraph она заявляет, что искать дальше какой-то иллюзорный консенсус с профсоюзами недопустимо.
Консенсус — это примирение с тем, что никому не нравится, но все в какой-то степени могут с этим жить. Когда нужны радикальные перемены, не может идти речь о консенсусе, нет места компромиссам. Тэтчер подхватила фразу фон Хайека: «Выиграйте борьбу идей, прежде чем пытаться выиграть политическую борьбу».Это была как будто ее собственная мысль — ведь она давно поняла, что обязана завоевать людей новой моралью. Слишком долго Британия питалась идеями двух элит.
С одной стороны, английская аристократия, давно живя в обществе частной собственности и капитала, презирала капиталистов. Даже крупные фабриканты оставались для нее торгашами и нуворишами. С другой — лейбористы, начитавшись заумных книг Рассела, Хаксли, анархиста Маркузе, обличали пороки капитала.
И для тех и для других капитализм был чуждой и безжалостной системой. Для Тэтчер — явлением привычным и созидательным. Она знала, что ее отец мог нанимать новых работников, потому что он удовлетворял требования своих клиентов. И чай, и сахар, и пряности для покупателей — все это результат свободы торговли. «Нет лучше школы для понимания экономики рынка, чем бакалейная лавка на углу», — повторяла она.
«Двигатель капитализма — это прежде всего механизм производства товаров массового потребления. Это предметы одежды по доступным ценам, это заводы. Чтобы достичь такого успеха, есть только одно средство: рынок. Первый противник, которого надо одолеть, — это, совершенно очевидно, инфляция, тормозящая инвестиции и пожирающая накопления»[96].
Пресса подхватила ее слова. Газеты пишут о повороте, который совершила в собственной партии миссис Тэтчер. Все отдают должное тому, что она «поднялась над скромной средой своего происхождения ценой больших усилий». Она ничем не обязана семейному богатству, а значит, не будет страдать от типичного комплекса тори — чувства вины за свои деньги. Только госпожа Тэтчер может предложить Британии новую мораль, которой так не хватает в политике.
Так что не только Марина Цветаева считала, что деньги непременно вызывают чувство вины, и полагала, что русские промышленники должны были от нее страдать. Британская кичливая аристократия в середине XX века вдруг почувствовала, что богатство стало крайне немодно. Модным стало равенство. Четверка буйных мальчишек из Ливерпуля подожгла умы проповедями братства и всеобщей любви.
К середине же 1970-х британцы увидели, что и цвета социализма стали линять на глазах. Поблек страх перед мощью СССР и Восточного блока, там на смену послевоенному рывку пришел застой. Берлин показывал миру, что только стена с колючей проволокой и патрули с собаками могут предотвратить массовое бегство немцев из коммунистического рая в Западную Германию. Голос Солженицына долетал до самых глухих провинций острова.
Даже жители шахтерских районов понимали, что так называемое «светлое будущее» лязгает гусеницами советских танков на брусчатке Будапешта и Праги. В газетах и на экранах мелькали картины длиннющих очередей у продовольственных магазинов в странах реального социализма, подтверждая, что пушки там, быть может, и есть, а вот масла совершенно точно нет.
И британцы начинают прозревать… Очумев от 30 лет хаоса, они больше не поминают Кейнса, забывают анархиста Маркузе, перестают апеллировать к идее «общества всеобщего благоденствия». Начинают зачитываться «Открытым обществом» Карла Поппера, работами Фридриха фон Хайека, Артура Кестлера. В это же время получает Нобелевскую премию Милтон Фридман…
Одиннадцать долгих лет
В мае 1979 года консерваторы побеждают на выборах, и Маргарет Тэтчер становится премьером. Было бы ошибкой сводить ее политику к ультрарадикальной свободе рынка или видеть в Тэтчер фанатика монетаризма. Да, она называла монетаризм «денежным воздержанием», за которым стоит принцип жизни по средствам. Однако идеи книг «Капитализм и свобода» Фридмана или «Дорога к рабству» фон Хайека — описание того, как социализм убивает предприимчивость и инициативу, — легли ей на душу потому, что отвечали ее собственной морали. К черту возвышенные идеи интеллектуалов, рассуждающих о равенстве! Маргарет не очень жаловала европейские принципы égalité, liberté, fraternité, говоря, что европейцы забыли о главном — о долге.
В отличие от Рузвельта она не уповала на «сто дней», зная, что бежит марафон. Раз она взялась за перелицовку мировоззрения нации, то должна изо всех сил держаться за власть. Не только за сто дней, но даже за один срок у власти не изменить общественного сознания.
На первый срок премьерства Маргарет поставила себе лишь — всего лишь! — задачу: стабилизация экономики и создание таких правил игры, при которых рынок определяет поведение всех субъектов общества и только он назначает им цену.
Через неделю после того, как она въехала на Даунинг-стрит, 10, — место работы британских премьеров, — ее правительство преподнесло парламенту самый радикальный за всю историю Англии бюджет. Резкое снижение подоходных налогов и умеренный рост налогов на пиво, табак, алкоголь, бензин, предметы роскоши. Если налог на пинту пива увеличили на 10 пенсов, то на Rolls Royce — на 4000 фунтов. Казначейство объявило о планах продажи государственных активов на сумму 2,4 млрд фунтов. Субсидии промышленности сокращалось на полмиллиарда. Расходы на жилищное строительство, энергетику, транспорт и помощь городам — почти на 10 млрд. Жесткое затягивание поясов. Назначение бюджета — «восстановить стимулы и сделать так, чтобы имело смысл работать», объясняла Тэтчер.
Расходы резали бесцеремонно: разом ликвидировали в отраслевых министерствах все департаменты, которые контролировали работу частных предприятий и отношения рабочих с профсоюзами. Банк Англии установил строгий контроль за увеличением денежной массы в обращении. Добившись некоторого снижения инфляции, еще очень скромного, правительство принялось за отмену всех форм контроля за ценами и зарплатами.
Сокращение денежной массы неизбежно вызвало спад в экономике и рост безработицы. Почти три миллиона безработных! Такого не было ни при одном правительстве! Министры жаловались, что их кабинеты завалены мешками жалоб, что мадам премьер слишком круто берет. Первые два года премьерства были для Тэтчер адом: ее рейтинг упал до 33%.
Но Маргарет слишком долго наблюдала, как правительства консерваторов вроде бы брались за реформы, но, столкнувшись с народным недовольством, разворачивались на 180 градусов. Именно это и завело Англию в тупик. Она только повторяла себе: «Мэгги, держись. Тебе никто не поможет. Давай, Мэгги, вперед».
Дело уже дошло до уличных беспорядков, демонстранты выходили с плакатами «Кровавую женщину — вон», «Верните нам работу». Улица взялась за камни и бутылки с «коктейлем Молотова». На это Тэтчер заявила: «Пока не прекратится насилие, правительство не будет рассматривать проблемы, послужившие поводами к беспорядкам».
Очень по-тэтчеровски. Когда ее подопечные ведут себя хорошо, она готова помочь. Когда они нарушают закон, неприкосновенный в ее глазах, она негодует. Участники беспорядков нарушили правила. Сперва следует заставить их соблюдать правила, а уж потом она займется их делами и заботами. До массового террора в отношении государственных служащих в Британии дело не дошло, но Тэтчер была почти так же бескомпромиссна к неповиновению закону, как в свое время Столыпин.
Тут ей помогла война на Фолклендах — довольно, кстати, бессмысленная: Англия положила 260 солдат, чтобы отстоять свой суверенитет над островами с населением 1800 человек. Но британцы были убеждены — это их острова. Их надо именно отвоевать, а не тянуть резину в переговорах с Аргентиной при посредничестве ООН. Таков британский дух!
Победа вылилась во всенародное торжество, под окнами Даунинг-стрит, 10, те же люди, что год назад требовали выгнать Тэтчер вон, теперь распевали «Правь, Британия, морями» и называли ее лидером победоносной войны, которая утерла нос не только Аргентине, но и колеблющейся Европе, считавшей Англию агрессором. Впервые Тэтчер связала себя эмоциональными узами со своим народом.
О, люди!.. Как легко они переходят от ненависти к поклонению. Победоносная войнушка всегда беспроигрышна, гордиться своей страной потребно не только русским. Англичане приходят в невероятное возбуждение от военных побед. Это же так нарядно! В отличие от долгой и болезненной терапии экономических недугов.
Конец «обеден с певчими»: нравственное излечение нации
Если бы не Фолкленды, у Тэтчер не было бы шанса рассчитывать на второй срок, а за первый она сумела только остановить кровотечение в экономике, и ее за это проклинали. Но она стала премьером во второй раз, а это означало, что теперь она ровня известнейшим мировым лидерам. Имеет право быть услышанной. К тому же ее меры по экономии государственных расходов стали давать первые плоды — экономика еще не расцвела, но уже оживала. Теперь Тэтчер могла приниматься за ключевые задачи — за те самые структурные реформы, о которых в России рассуждают уже почти 30 лет.
Для начала — обуздать профсоюзы. Пока люди очарованы коммунистическими заклинаниями, рыночные реформы невозможны. Лидеры профсоюзов внушили британцам, что долг правительства — заботиться о зарплатах на частных предприятиях. И обвиняли именно правительство — безответственно и воинственно. Угрозами оставить страну без топлива профсоюз угольщиков свалил к тому времени уже три правительства.
Чтобы отважиться поднять на руку на самый мощный профсоюз, Тэтчер нужно было нарастить мускулы. Она хорошо знала угольную отрасль, которая была неконкурентоспособной по сравнению с континентальной Европой, держась только на бюджетных субсидиях — больше миллиарда фунтов в год! Шахтеры требовали все больше, а руководство их профсоюза проводило отпуска на Кубе и в СССР, и для Тэтчер это было олицетворением всей гнили, какая накопилась в британской экономике. Снова вопрос для нее представал отнюдь не только экономическим. Все та же борьба за умы людей, за собственные представления о морали.
Составили план реорганизации угольной отрасли: закрыть 40 шахт, отправить на пенсию 20 тысяч шахтеров. Правительство скрытно накопило тем временем пятимесячный запас угля, чтобы не допустить кошмаров зимы 1978 года. Как только реформа была объявлена, шахтерский профсоюз поднялся на забастовку. К ней присоединились 140 тысяч человек, между пикетами забастовщиков и полицией начались стычки, пролилась кровь. К середине лета забастовка обошлась стране уже в 2 млрд фунтов. На Тэтчер давили все, требуя разрешения конфликта.
Но у нее был другой план: ни в коем случае не ввязываться в этот конфликт. «Обедни с певчими» — так она прозвала бесконечные переговоры с профсоюзами, на которых правительство теряло одну позицию за другой. Теперь лидерам профсоюзов вход на Даунинг-стрит был закрыт. Пусть сами договариваются с собственниками частных компаний. А государственные предприятия правительство вправе реорганизовывать по своему усмотрению. План реструктуризации утвержден, закон он не нарушает. Все, точка. Певчие — за дверь!
Забастовка продолжалась год, а Тэтчер ждала, когда в машине закончится пар. И действительно, постепенно бастующие шахтеры, замучившись сводить концы с концами на пособие по безработице, начали возвращаться на рабочие места. Призывы и лозунги профсоюзов за год поблекли, люди увидели, что они отнюдь не гарантируют победу. Цена за ту забастовку была заплачена огромная — в 2 млрд фунтов обошелся простой шахт, где целый год не производилось ровным счетом ничего. Тэтчер размахивала этой цифрой как флагом, убеждая соотечественников, что они оплачивают своими налогами воинственность угольщиков. Именно поэтому, доказывала она, подскочил дефицит бюджета и обвалился курс фунта.
Она выиграла эту битву. Угольщики смирились, а вслед за тем провалились попытки профсоюзов организовать забастовки почтовых работников и железнодорожников. Исход угольной забастовки изменил отношение к профсоюзам в целом. Деморализованная администрация фирм и предприятий уже не дрожала в залах заседаний в страхе перед правительством. Уже почти без борьбы кабинет Тэтчер принялся сокращать сталелитейную отрасль, продолжая сворачивать производство дорогого угля. Новые рабочие места в Англии, как и во всем мире, возникали в высокотехнологичных отраслях, а «белых воротничков» не интересуют призывы к рабочей солидарности и классовой борьбе, реликты ушедшей эры. Популярность Тэтчер, как и после войны на Фолклендах, снова подскочила.
Ее следующая задача была не менее масштабной: она уже давно вынашивала идею выкупа съемщиками своего жилья. В стране стала реализовываться программа по выкупу социальных квартир по заниженной оценке и поддержке ссудами на их покупку.
Программа била по нескольким целям. Первое — собственниками, то есть средним классом, становились сотни тысяч людей самого невеликого достатка. Тэтчер превращала нацию пауперов в нацию собственников. Второе — рабочая сила становилась мобильной. Раньше, чтобы получить социальное жилье на новом месте, надо было годами стоять в очереди. Теперь рабочие в любой момент могли продать жилье и купить новое. Даже самым низкоквалифицированным рабочим стало намного легче найти работу — там, где на их труд есть спрос. Значит, программа продажи жилья в собственность — это и средство борьбы с безработицей, и способ выровнять естественную цену на рабочую силу во всей стране. За три первых года собственниками жилья стало более миллиона семей, а к концу премьерства Тэтчер свое жилье было уже у 66% населения — показатель почти втрое выше, чем в Германии. В собственников, в средний класс превратилось две трети нации. Ничего не понять в тэтчеровской революции, если не принимать во внимание перемены в состоянии умов, которых она добивалась.
И снова хочется сказать: «О, люди!..» — теперь в адрес россиян. В Британии съемщики жилья выкупали квартиры. В России люди получили их даром в 1990-х. И никто из критиков реформ того десятилетия не помянул бесплатную приватизацию жилья добрым словом! Только стоны, что одному досталась четырехкомнатная «цекушка», а другому однушка в пятиэтажке. Людям угодить невозможно. Как не вспомнить еще один афоризм Тэтчер: «Если вы даже можете ходить по воде, вас обвинят в том, что, значит, вы не умеете плавать».
Наконец мадам премьер взялась за приватизацию предприятий. До второго срока премьерства у нее не было достаточного влияния, чтобы ввязаться в эту драку, но о приватизации Тэтчер мечтала давно. Еще в 1974 году, выступая перед своими избирателями в округе Финчли, она заявляла: «Когда приносящая прибыль отрасль промышленности передается в общественную собственность, ее прибыльность вдруг исчезает. Курица, которая несла золотые яйца, впадает в задумчивость. Государственные куры — не очень хорошие несушки».
Начала она с British Telecom. Никто не верил в успех приватизации такого гиганта. Откуда у населения деньги? А если у кого и есть — с какой стати они станут покупать акции неприбыльной компании? Не верили в эту затею и банки, без которых провести денежную приватизацию невозможно. Нашелся один маленький и невзрачный банк, его и назначили агентом по продаже. Акции выставили на торги по заведомо заниженной цене. Тэтчер упрекали, что она «распродает фамильное серебро по дешевке» — точь-в-точь как до сих пор упрекают Чубайса, что тот «продавал Родину». На это мадам премьер отвечала, что стоимость неприбыльной компании — штука умозрительная.
Через неделю продаж выброшенные на рынок акции стали расти в цене. К концу второй недели продаж они выросли на 80%. Вслед за British Telecom на торги выставили Британскую газовую корпорацию, затем Rolls Royce. Спрос на акции Rolls Royce был настолько ажиотажным, что компания объявила эмиссию дополнительных акций и, продав их, увеличила капитал в 10 раз! С British Oil получилось не так удачно, ее акции вышли на рынок в момент серьезного спада на биржах мира. Но тут же стали готовиться планы приватизации в таких отраслях, как водоснабжение, электроснабжение, сталелитейная промышленность.
Дата 27 октября 1986 года никому не запомнилась, а это был знаковый день. Казалось бы, что особенного — Сити открыли для иностранных брокеров. А это был прорыв мирового значения: во всей Европе лишь на Лондонской бирже начали торговаться акции практически всех стран и эмитентов. Вся торговля велась через компьютер — это в середине 1980-х! Мгновенно лондонский Сити превратился в ведущий финансовый центр, в эльдорадо мира, который с каждым годом все увереннее теснил позиции Уолл-стрит, а Лондон — в финансовый центр Атлантики. Вся экономика Британии получила мощнейший приток новых денег.
Маргарет Тэтчер, в девичестве Робертс, наверняка понятия не имела о фьючерсах и деривативах, которые возникли именно тогда и именно в лондонском Сити. Но она точно знала, что в лавку ее отца товары поступали со всего мира и что свобода торговли — не важно, пряностями или акциями — приносит деньги той лавке, где эти товары продаются.
Однако дело не только в самой лавке… Британцы снова почувствовали себя имперской страной, их столица притягивала богатства всего мира. В стране появилась новая порода людей — финансисты со всех концов света, носившие красные подтяжки и галстуки сомнительного вкуса и изъяснявшиеся на жаргоне, чтобы не сказать на мате. Это сообщество ходило не в респектабельные клубы, а в пивные и бары, но непременно в шикарные, где за обычный гамбургер — раса же демократичная — банкиры были готовы отдавать по 20 фунтов. По четвергам — последний полноценный день перед концом недели — на подоконниках пивных стояли шеренгами бутылки французского шампанского. В 1990-х деньги уже текли рекой, как и пересуды о невероятных зарплатах и бонусах брокеров и трейдеров количество служащих Сити утроилось, достигнув 700 тысяч человек. Это были не капиталисты, а наемные работники, только получали они под миллион фунтов в год. В монархической стране Маргарет Тэтчер создала то самое бесклассовое общество, которое не удалось построить ни одному марксисту-коллективисту.
Кстати, принц Чарльз принялся осуждать эти «легкие деньги» и отвратительную вульгарность, которая искажала, по его мнению, облик Лондона и превращала Сити в «ночной горшок». Он не единственный, кому было не по нраву новое богатство. Таких много и среди старой английской аристократии, и среди российской интеллигенции, претендующей на лидерство во мнениях…
А сознание нации тем временем обновлялось, деньги уже не выглядели вульгарностью, слова «прибыль», «выгода» перестали быть ругательными. В 1980 году в Британии было 2 млн держателей акций, в 1990-м — 11 млн, четверть населения. Пусть у большинства мелких акционеров всего горстка акций, но даже сотня фунтов дивидендов в год заставляет их читать сводки биржевых новостей, вникать в динамику курсов, прикидывать, в какие еще ценные бумаги — облигации, бонды — лучше вложиться.
Приватизация — это же не только избавление государства от заботы о предприятиях, которые нужно постоянно подпитывать субсидиями, чтобы они не загнулись. Это путь к деньгам, который люди находят сами. Тэтчер избрала трудный путь: посвятила себя педагогике рыночной экономики. Вместо того чтобы скрывать от избирателей неизбежность и суть перемен, она объясняла их необходимость простыми и понятными словами.
Маргарет Тэтчер не создала народный капитализм, но создала нацию убежденных, хватких и защищенных законом собственников. С этим багажом она пошла на третий срок.
Пришел черед «социального тэтчеризма» — структурные реформы в социальной сфере. Это клевета, что Тэтчер убила бесплатное здравоохранение, приватизировав его, — она не посмела уничтожить государственную медицину, а лишь разрешила открывать частные клиники.
До того, как Тэтчер принялась за эту сферу, британская система медицины до боли напоминала советские поликлиники: пациент прикреплен к участковому врачу по месту жительства. Больницы месяцев за 5-6 исчерпывали дотации, выделенные им на год, и с лета больным уже приходилось дожидаться следующего бюджетного года, чтобы сделать обследование или операцию.
Всего один, казалось бы, скромный шаг — Тэтчер открепила пациента от участкового медучреждения. Он сам вправе выбирать врача и клинику, а деньги из бюджета будут поступать в клиники вслед за пациентами. Это, конечно же, вызвало волну протестов среди медиков, которых Тэтчер вынудила конкурировать. Но стало, безусловно, лучше: сократились очереди, врачи стали дорожить каждым пациентом. Очевидные же вещи!
В школах то же самое: решения, как расходовать выделенные деньги, принимал теперь совет школы, состоявший из учителей и родителей. Родители были в восторге: они сами думали, нужен ли новый спортзал или лучше ввести обучение иностранному языку, сами решали, каким учителям нужно, а каким не нужно повышать зарплату. В этой реформе было ясно видно влияние Милтона Фридмана, который убеждал, что все школы должны быть частными, а государственные средства на образование надо тратить не на сами школы, а на образовательные ваучеры, чтобы родители решали, в какую школу отнести эти деньги. На такую радикальную реформу Тэтчер никогда бы не получила добро ни от парламента, ни от общественности, ни даже от своего кабинета…
Кстати, о кабинете. Из главного убеждения Тэтчер — о том, что надо следовать собственным убеждениям, а не искать зыбких компромиссов, — с неизбежностью вытекало, что министры менялись как перчатки. К третьему сроку ее авторитаризм стал граничить с нетерпимостью: все-таки власть развращает. Громить оппонентов — это был ее стиль ведения полемики в парламенте, но ее филиппики уже начали приедаться. Всем было наплевать, что на самом деле Маргарет была на удивление добрым человеком, — ее воинственность на публике, на сцене, где разыгрывалась битва идей, уже утомляла.
Пара провальных законопроектов спровоцировали бунт на корабле. Ее кабинет при поддержке «мягкотелых» членов Консервативной партии решил, что с них хватит Тэтчер. На выборах 1990 года в первом туре ей не хватило всего двух голосов для победы, и, хотя она объявила, что будет сражаться во втором туре, пресса, партия и общественность уже ее похоронили. Ей пришлось снять свою кандидатуру в пользу Мейджора за несколько дней до повторного голосования. Мода на Тэтчер прошла. Такова жизнь…
За годы ее премьерства доходы населения страны выросли в реальном измерении на 37% — это уже выдающийся результат. Собственниками жилья стали почти 70% нации — результат не менее выдающийся. Возник огромный, отнюдь не бедствующий средний класс. Но эти достижения не ставились ей в заслугу. Напротив, ее критиковали за неравномерное распределение выросших доходов, за усиление неравенства.
Тэтчер считала необходимым этот рост неравенства и совершенно сознательно к нему стремилась. Да, богатые разбогатели еще больше, но и у бедных доходы выросли. Значит, большинство граждан извлекло личную пользу из вновь обретенного благополучия, и она гордилась тем, что талант, упорный труд и успех вознаграждаются. Но одна десятая населения осталась на обочине, в прежней бедности. Обойти молчанием это нельзя, но и поминать всуе — значит ничего не понимать в том, что такое «тэтчеровский проект». Нескладные судьбы, убеждения или предрассудки, мешающие «упорно и тяжко трудиться», есть и будут всегда. Зато Тэтчер открыла совершенно новые возможности разбогатеть для массы людей. И кстати, вопреки мифу, тщательно поддерживаемому антитэтчеристами, она не тронула расходы на социальную помощь и здравоохранение. Только в отличие от 1970-х теперь страна с процветающей экономикой могла себе это позволить.
Деревья растут долго, прежде чем начать плодоносить
Крис Огден, один из первых биографов Тэтчер, написавший о ней книгу еще в те времена, когда она была премьером, вспоминал, как подростком жил с родителями в задымленном заводскими трубами нищем Лондоне. «Когда я вновь приехал в 1985 году, — пишет он, — Англия после шести лет крестового похода, возглавляемого Тэтчер, стала неузнаваемой — преуспевающей, гордой, с высокой производительностью труда»[97].
Продержавшись в кресле премьера три срока, Маргарет Тэтчер превратилась из просто значимого политика в историческую фигуру. Едва ли можно сказать: «А что она, собственно, сделала?» Она сделала то, на что до нее никто не мог решиться, — вот что! Отважилась «всего-то» привести расходы государства в соответствие с доходами, порезав уйму должностей, оставив без дотаций неконкурентные предприятия, попутно лишив многих работы. Перестала прогибаться перед профсоюзами, разорвав порочный круг «повышение зарплат — рост госрасходов — рост инфляции — новое повышение зарплат» при по-прежнему низкой производительности труда. Сначала люди ответили на это забастовками, а потом сумели заставить себя найти работу, где их труд оплачивался по рынку, как и должно быть. Она остановила тем самым инфляцию и укрепила валюту страны.
Взялась за госпредприятия, висевшие ярмом на бюджете, и реструктурировала целые отрасли. Приватизировала несколько гигантов, хотя до нее их считали настолько значимыми, что ими владеть могло почему-то непременно государство. В частных руках их значимость для страны не уменьшилась, они просто стали лучше работать, потому что деньги в них вкладывали теперь люди и ответ за эти деньги надо было держать перед ними, перед акционерами. Вброс акций этих гигантов на рынок ценных бумаг дал импульс такой силы, что в Сити переместился мировой финансовый центр. Тэтчер открыла страну для свободной торговли — еще один импульс развития конкуренции, которая заставила и капитал, и рабочих задуматься о том, что деньги надо не у государства клянчить, а самим создавать за счет более высокопроизводительного труда. Две трети нации сумели купить в собственность квартиры за счет тэтчеровской программы поддержки, подвижки в системе здравоохранения, образования… Можно долго перечислять, но, если в одной фразе, это и есть структурные реформы.
Можно упрекать Тэтчер за деиндустриализацию страны — она убила немало предприятий, чье время уже прошло. Можно славить за то, что она первой поняла, в чем ее страна наиболее конкурентоспособна — быть центром финансовых, юридических и других высокопрофессиональных услуг. И наконец, главное — она сумела убедить соотечественников, что реформы дают свои плоды не быстро и за них надо платить. Ее педагогика рынка, на которую она не жалела сил, изменила отношения людей к деньгам.
Плоды ее реформ созрели в полной мере только к середине 1990-х, когда устойчивый экономический рост — более 4,5% в год — ставился в заслугу исключительно Тони Блэру. К концу 1990-х ощутимо стерлись различия в качестве образования между привилегированными и обычными школами. К рубежу нового тысячелетия в Англию потоком хлынули профессионалы со всего мира — темпами, превышающими скорость «притока мозгов» в Штаты.
Тэтчер устроила «старушке Англии грандиозную встряску, в которой та нуждалась. Она открыла англичанам новые альтернативы. В том числе и психологически дискомфортное понимание того, что самые серьезные препятствия к успеху — в них самих. Она возродила национальную гордость и указала путь к процветанию — немалое достижение в стране, долго считавшей создание богатства чем-то слишком материалистичным и безвкусным, слишком американским»[98].
Тэтчер не была мыслителем или теоретиком, как Кейнс или Фридман. У нее не было школы Эрхарда. Она опиралась только на свои нравственные ценности и здравый смысл. И тем не менее ее политика была предельно последовательна и всеобъемлюща. Одиннадцать лет премьерства Тэтчер спасли королевство.
А к концу ее политической карьеры рухнули и «железный занавес», и Великий строй. Пора, видимо, снова вернуться на российскую землю, где на рубеже 1990-х история в очередной раз начиналась заново. Теперь мы хорошо представляем себе, как продвинулась Атлантика, какой огромный багаж был там накоплен за десятилетия существования советской власти в России. Теории Кейнса и Фридмана, политика Рузвельта, Эрхарда, Тэтчер, теории, которые тут удалось лишь упомянуть, — Оппенгеймера, Фридриха фон Хайека, Самуэльсона, Кузнеца… С этим багажом можно гораздо более внятно судить о сегодняшних спорах «мыслящих» и о том пути для России, который ведет к деньгам.
Нельзя ограбить неимущего. Очерк о первоначальном накоплении
Великолепный документально-постановочный сериал «Романтики» 2006 года писатель и сценарист Питер Акройд посвятил поэзии английского романтизма рубежа XVTTT-XTX веков. Это истории утраты иллюзий. Восхищение Уильяма Блейка сначала американской революцией 1776 года, затем Французской революцией 1789-1793 годов сменилось у поэта разочарованием и тоскливой безысходностью. На смену средневековому сословному неравенству пришли долгожданные égalité и liberté, но их облик оказался омерзительным: дети-трубочисты своими телами прочищают дымовые трубы, там же и гибнут. Кругом бродяги, бездомные нищие — пауперы, одним словом. Байрон сам революций не застал, но мрачный эгоизм и меланхолия его героев — это горькая усмешка над тем, как капитализм помножил на ноль идеалы тех, кто шел на баррикады за равенство и братство.
Фильм вызвал шок! Зрители забыли или не знали, откуда взялся капитал. К середине XX века рабочие стран Атлантики уже не помнили звук заводского гудка, сегодня мало кто из наемных рабочих и станок-то в глаза видел — кругом банкиры, медийщики, модельеры, дизайнеры, компьютерщики. Образованный, креативный люд. Этой рабочей силе капитал дает достаток, дома, машины, все больше делится с ней прибавочной стоимостью, сам не оставаясь при этом внакладе — подумайте о состояниях Джобса, Гейтса… И об уровне заработка занятых в Apple или Microsoft.
Фильм Акройда стал откровением, потому что мало кто открывал 24-ю главу первого тома Das Kapital. Она так и называется — «Тайна первоначального накопления», ведь большинству неведомо, что изначально капитал взялся попросту из грабежа. Другого пути не было и быть не могло.
В России все чувствуют себя ограбленными. Если есть у нас слово, которое ненавидят еще больше, чем слова «монетаризм» или «либерал», то это «приватизация». Что и у кого отобрали реформаторы 1990-х и лично господин Чубайс? Мы все были неимущими, значит, просто ничего не досталось на халяву, так получается? Ведь неимущего ограбить невозможно!
Тем не менее ощущение несправедливости жжет сердце. Люди постарше не могут простить тем годам собственную эйфорию надежд, сменившуюся тоскливым, как у Блейка, чувством безысходности. А не заставшие той поры пребывают в меланхолической апатии — прямо как Байрон.
Так вот: справедливых приватизаций не бывает! Только кажется, что где-то было по-другому. Да, Тэтчер могла продавать British Telecom на рынке с аукциона за справедливую цену. Но ни в России, ни в других восточноевропейских странах плановой экономики в начале 1990-х не было ни рынка, ни цен, ни денег, чтоб отправиться на аукцион. А приватизировать надо было не пять и не 50 предприятий. Справедливой смены одной формы собственности на другую быть не может. Но, как ни покажется странным, капитал, который появился в ходе чубайсовской приватизации, не был результатом грабежа. Грабеж надо искать совсем в другом периоде нашей истории… А приватизация 1990-х — не более чем не совсем справедливая или совсем несправедливая дележка. Так и дележек справедливых тоже не бывает!
Важнее другое, из-за чего сердце у россиян не болит. В России начала 1990-х взялись приватизировать все — так народу и пообещав. Государственные активы были не способны генерить деньги и наполнять прилавки товарами для населения. Каждому предприятию требовался хозяин. Конкретный человек или группа акционеров, которые принялись бы поднимать лежащие на боку предприятия, чистить их активы, ставить управление с головы на ноги. Иными словами, нужен был капиталист, который, получив этот первоначальный капитал, пусть и несправедливо, занялся бы накоплением уже не первоначальным, а капиталистическим.
В 1990-х государство приватизировало дай бог если половину активов. И решило, что хватит. Поэтому с первоначальным накоплением капитала ту приватизацию даже сравнивать смешно. Так, эпизод. Более того, он никак не объясняет, откуда изначально взялись активы, которые тогда решили превратить в капитал. И откуда остальное добро, которое в капитал так и не превратили. Короче, откуда у государства взялась вся его собственность? Вот где тайна! Или секрет Полишинеля. Все зависит от того, насколько пристально смотреть на «особый путь» развития периода Великого строя. И еще вопросик на сладкое: а что теперь-то должно стать с остальным, еще не приватизированным добром? Закончился ли у нас процесс первоначального накопления? Навряд ли… И это отдельная тайна.
Но сначала о том, как это было «у них». О леденящих душу историях в 24-й главе первого тома Das Kapital. Маркс и тут глядел в корень.
Роды — дело грязное и кровавое
В чем тайна? В том, что у Маркса мы видели, как «деньги превращаются в капитал, как капитал производит прибавочную стоимость и как за счет прибавочной стоимости увеличивается капитал». Но накопление капитала уже предполагает существование капиталистического производства. Выходит, что все вращается в порочном кругу. Выбраться из него можно, лишь предположив, продолжает Маркс, «что капиталистическому накоплению предшествовало накопление "первоначальное" (previous accumulation, по А. Смиту)»[99]. То есть накопление, которое является не результатом работы капитала, а его исходным пунктом. И «методы первоначального накопления — все, что угодно, только не идиллия»[100].
Тянулось первоначальное накопление с XVI века: «Массы людей… насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса. Ее история в различных странах имеет различную окраску, проходит различные фазы в различном порядке и в различные исторические эпохи»[101].
В Англии после отмены крепостного права на землях лордов, бывших феодалов, трудились крестьяне, что-то отстегивая владельцам земли. Лорды сообразили, что собственное разведение баранов и продажа их шерсти гораздо выгоднее, чем крестьянское землепашество, — спрос на шерсть в мире был сумасшедший. «Превращение пашни в пастбище для овец стало лозунгом феодалов»[102]. При Вильгельме Оранском, то есть в XVI веке, государственные и церковные земли отдавали в дар или продавали за бесценок нарождающейся буржуазии. Государство быстро смекнуло, что с буржуазии можно собирать гораздо больше налогов, чем с церковников. Но городские мануфактуры еще были не в состоянии поглотить всех согнанных с земель крестьян, те превращались в нищих и бродяг. Королева Елизавета I объявляла их «бездельниками», сажала в тюрьмы и казнила пачками.
К тому времени торговля благодаря великим географическим открытиям уже сложилась в мировой рынок — представьте себе, сколько столетий мир шел к нынешней глобализации. Допотопный капитал — торговый и ростовщический — рвался на другие континенты. В колониях — дешевые ресурсы, редкие товары — шелк, драгоценности, пряности, на которые такой спрос в Европе. К тому же и еще один недурной товар в колониях можно добыть почти бесплатно, а у себя, в странах Северной Атлантики продать недешево — рабов… На торговле рабами выросли Ливерпуль и Амстердам. Голландцы везли рабов с Целебеса, французы — из Черной Африки. Это еще больше сокращало потребность в собственных наемных рабочих, которым надо было платить какие-никакие деньги, и в Европе по-прежнему процветало нищенство.
Особенно прибыльным был экспорт рабов в Америку. Европейские морские державы всячески поощряли работорговлю, и не только ради денег. Им было на руку узаконенное рабство «по другую сторону пруда» — Атлантического океана. На этом фоне и скрытое рабство собственных рабочих, и полурабство детей, которых обедневшие родители продавали фабрикантам в услужение, смотрелись не столь безобразно. И даже дети-трубочисты, задыхавшиеся в дымоходах…
В Америке сгоняли с земель аборигенов — индейцев, которых бритты и французы теснили все дальше на запад, а их земли осваивал капитал. По законам страны самой первой и полной демократии даже в XIX веке гражданами США считались только европейские переселенцы. Верховный суд им дал право занимать земли индейцев, которых гражданами никто не считал.
А как же тогда с обменом эквивалентов? Все Марксовы законы построены на этом справедливом принципе. К чему его байки насчет упорного производства зерна и обмена его на холсты? Эти простейшие для понимания абстрактные формы обмена товаров, денег и рабочей силы, действительно справедливые, которые создал уже сам капитал, когда он сложился.Но это не значит, писал Маркс, что исторически именно таким путем и формировался капитал: холст за холстом, копеечка к копеечке, — на это ушли бы тысячелетия. А так всего каких-то 300 лет грабежа — и вот вам капитал. Он возник исключительно из насилия. Из присвоения земель, с которых сгоняли крестьян в Европе и аборигенов Америки, из труда рабов. Кроме Диккенса, можно и «Хижину дяди Тома» вспомнить.
К 1861 году, к началу Гражданской войны в США, в стране насчитывалось 4 млн рабов. Сложно сказать, сколько в Европе было скрытых полурабов и пауперов, которые бродяжили по континенту без средств к существованию. Наверное, раза в три-четыре больше. Итого — навскидку — цена под 20 млн жизней за тяжкие роды нового строя. Если деньги «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке, — пишет Маркс, —то новорожденный капитал источает кровь и грязь изо всех своих пор, с головы до пят»[103].
В 1865 году в США закончилась Гражданская война между Севером и Югом, в которой северяне сражались за отмену рабства. Не из гуманизма, а потому что свободные наемные рабочие стали нужны северянам на их фабриках. Чуть раньше в Европе закончились промышленные революции. Только после трех веков кровопролитий появился капитал в полном смысле этого слова. Он и установил обмен эквивалентов, который требовался всем, он отказался от рабского труда, который для фабричного производства непригоден!
Капиталу нужен свободный, сытый и неплохо соображающий рабочий. Естественным путем капитал подошел к установлению законов своего постоянного развития. Маркс лишь открыл их, как Ньютон открыл закон тяготения, хотя яблоки падали вниз и тысячи лет до него.
Белые рабы России
Наглядевшись на рабов, которых в портах Европы раскупали, как горячие пирожки, и содержали, как животных, европейцы приезжали в XVIII-XIX веках в Россию и поражались: они-то думали, что только к темнокожим инородцам можно относиться как к вьючному скоту. Им можно ставить клейма раскаленным прутом, заковывать в кандалы, держать на воде и хлебе. Они рождены, чтобы работать на белого господина до изнеможения. А в России, оказывается, рабы — такие же белые люди! У европейцев, которые уже уверились, что их нации едины — не зря же на баррикадах сражались за равенство, свободу и братство, — не укладывалось в голове отношение российских помещиков к своему крестьянству как к колониальному товару.
А это как раз и есть внутренняя колонизация. Крепостное право за два с половиной века узаконило и на бумаге, и в сознании сожительство патрициев и рабов, прикрытое иллюзией патриархальной идиллии. Никого не сгоняли с земли, наоборот, помещики только и думали, как бы привязать крестьянина к ней покрепче. «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил…» — между делом пишет Пушкин об Онегине, и ни герою, ни автору, который был так впечатлен Байроном в молодости, в голову не приходит впадать в уныние от рабства белых сограждан.
Первоначальное накопление капитала в России не было «массовым и внезапным лишением массы людей земли, средств производства и пропитания», оно ползло темпом улитки, за счет обмена зерна на холсты и сюртуки. По большей части капиталистами становились купцы, мещане, вчерашние крестьяне, которые ничего ни у кого отобрать не могли, а могли только сами заработать.
В начале XX века не многое поменялось — высшие слои противились разрушению общины, ее «патриархальной идиллии», хотя на самом деле это была агония нищеты. Столыпин принялся размывать общину, но насильственно ломать уклад жизни крестьянина считал неприемлемым. Русские промышленники в ряде случаев — как, помните, Мальцовы? — превращали целые общины в поселки рабочих на своих предприятиях. Обеспечивали им фабричную занятость вместо скудного земледельческого дохода. С другой стороны, там, куда руки подобных Мальцовых не дотягивались, продолжалось гниение общины, а вместе с ней и ее земельных ресурсов, и крестьянства. Отсюда и отсталость России.
Накопление капитала перед Первой мировой войной ускорилось за счет реформ Витте и Столыпина. Это был самый масштабный рывок страны вперед, она вставала на атлантический путь, и темпы преодоления отсталости были поразительны.
Нет смысла воображать, какой стала бы Россия, если бы аграрная реформа Столыпина была доведена до конца, если бы в этот процесс не вмешалась Первая мировая война, а затем ленинская революция. Игорь Бунич, один из ведущих советских экономистов 1980-х годов, был убежден, что «если бы программа Столыпина воплотилась в жизнь, к 1940 году Россия экономически обогнала бы США и эволюционным путем пришла бы к парламентской монархии»[104], в этой книге уже цитировалась его оценка столыпинских преобразований.
Но они вмешались — и война, и революция. Вот тут-то в полной мере и развернулось «первоначальное накопление»…
В годы Великого строя Россия развивалась, и очень быстро, по крайней мере до застоя 1970-х. За счет чего — мы уже видели: палитра самых разных форм грабежа — вот вам и тайна «первоначального накопления» социалистических активов. И методы его — все, что угодно, только не идиллия, как говорил Маркс. В России периода СССР, при всем ее «особом пути», все было не менее грязно и кроваво, чем в свое время в странах, ставших капиталистическими.
Весь период Великого строя — история первоначального накопления. Та же экспроприация собственности населения, что и сгон крестьян с земли, — через национализацию, коллективизацию и присвоение государством имущества отправленных в лагеря. Такое же превращение человека в раба — в лагерных бараках, такое же выколачивание — по-стахановски — прибавочной стоимости из рабочей силы. Почти 20 млн погибших в лагерях и почти столько же умерших от голодоморов в 1920-1930-х годах. В разы больше, чем количество рабов, уморенных в Америке. Только капитал накапливался не частный, а государственный, копился он во имя вранья «о благе трудового народа и всеобщем равенстве», и длилось первоначальное накопление не три века, как в странах Атлантики, — большевики умеют все делать по-быстрому, — а всего несколько десятилетий.
Первоначально накопленного хватило чуть больше чем на полвека, двигатель для своего автомобиля Великий строй так и не создал. Исчерпав возможности насилия, автомобиль ехал все хуже, на ходу ржавея и рассыпаясь. К середине 1980-х экономика зашла в тупик: лежачие предприятия, мифическая продовольственная программа и пустые прилавки.
Еще лет пять после этого судорожно пытались сохранить государственную собственность — основу социализма, как было писано в учебниках марксистско-ленинской политэкономии. И так и эдак пробовали: какой-то внутренний хозрасчет на предприятиях, чтобы дать рабочему стимулы в виде денег, какие-то боязливые попытки разрешить предприятиям самим распоряжаться частью продукции… Не работает. Накопленное государством продолжало разваливаться, народ митинговал… Хоть кто-то помнит, что на рубеже 1990-х в стране были талоны? Те же самые карточки. Моя близкая подруга, работавшая в издательстве, получала зарплату пачками «Лапши яичной». Много лапши…
Не было другого пути, кроме как отдать первоначально накопленное в частные руки, чтобы новые, частные собственники принялись наконец производить не тонно-километры, а делать деньги! Именно деньги. Без них уже было не прокормить нацию. И много чего раздали, вызвав при этом море людского гнева, которое и сейчас еще волнуется. Только та приватизация, плоды которой достались «шустрым», за что их окрестили мерзким словом «олигарх», — лишь видимая часть процесса новой главы первоначального накопления. Если поглубже копнуть, оказывается, таинственная история продолжается…
Справедливых приватизаций не бывает
Сначала — о том возникновении частного капитала, который терзает память россиян постарше и о котором понаслышке судит молодняк. О приватизации, что была у всех на виду в середине 1990-х.
Приватизация не что иное, как смена собственности. Как, впрочем, и национализация. Когда в странах Атлантики феодальная собственность менялась на частнокапиталистическую, крови пролилось немало — у Маркса об этом сотни страниц. Когда в России после революции капиталистическую собственность национализировали, крови пролилось едва ли меньше. Она и дальше лилась, пока продолжался процесс первоначального накопления государственной собственности Великого строя.
А вот приватизация 1990-х была бескровной! Она была просто грязной, за что все и ненавидят эту очередную смену собственности. С государственной снова на частную. Считают грабежом, хотя никого не ограбили. Сегодняшние 20-25-летние ее не застали, не видели пустых прилавков, росли уже в сытой стране, они одеты — на круг — моднее и богаче, чем их сверстники в Европе. Однако считают, что государственное добро четверть века назад поделили несправедливо.
Да, несправедливо! Чудес не бывает, примите это как данность. Все страны бывшего соцлагеря прошли через такую же данность, и везде у людей от приватизации осталось байроновское разочарование.
В Болгарии, Польше, Чехии, Румынии, Словении, Хорватии имущество раздавали бесплатно, по схемам, схожим с российской ваучерной. Предприятия бывшей ГДР продавали за деньги после объединения страны. Ясное дело, их покупали прежде всего капиталисты Западной Германии, отчего восточные «осси» до сих пор страдают приступами социальной неприязни к западным «весси». Отчасти эта несправедливость была сглажена реституцией, то есть возвратом имущества на территории восточной части бывшим владельцам или их наследникам. Найти хозяев имущества, национализированного в 1945-м, было вполне реально.
В Венгрии государственное имущество тоже продавалось за деньги, которых, в отличие от Германии, в стране не было, поэтому продавали дешево, зато на основе конкуренции. То, что послаще, оказывалось в руках иностранцев. Можно страдать от тоски, как Блейк, что государственное добро распродали по дешевке. А можно сказать ровно наоборот: пока оно было государственным, то вообще мало чего стоило, раз мало что производило. Можно считать, что все сладкое захапали иностранцы, а можно видеть в этом передачу новых технологий, наполнение прилавков товарами, а бюджета — налогами, которые иностранцы платят именно в Венгрии, а не в Гондурасе.
В Чехословакии приватизацию не простили Вацлаву Клаусу и Душану Тришке. В Польше прокляли чековую приватизацию Кучинского и Левандовского, а заодно и все рыночные реформы Бальцеровича, так похожие на реформы Гайдара и его команды… В ГДР вообще убили первого председателя Treuhandanstalt — агентства по управлению имуществом. Люди — странные существа, доброго слова от них не дождаться. Хоть по поводу настоящего, хоть прошлого… Все плохо. Всегда.
Чем недовольные в России были в 1990 году хуже старшего инженера фирмы «Удобрения» Владимира Потанина или театрального режиссера Владимира Гусинского? Только тем, что подсуетиться не успели — они ваучеры на водку меняли. Так чем же их, собственно, обделили? Никто никого при приватизации не сгонял с земли, ничего не отбирал. Бесплатная приватизация квартир — раз. Половина акций собственного предприятия бесплатно отдана в руки трудовых коллективов — два.
Тут выясняется, что бесплатные квартиры не в счет, раз одному досталось пять комнат в «цекушке» или «сталинке», а другому — однушка в «хрущобе». А как надо было? Тех, из «цекушек», — в «хрущобы», а жителям «хрущоб» — по квартире в «сталинке»? И акции, как выясняется, не в счет, потому что в итоге их все равно прибрали к рукам шустрые. Так рабочие их сами продавали за гроши своим директорам или, наоборот, тем, кто собирался отобрать у директоров предприятие. Им эти акции сто лет были не нужны, и цепляться за них рабочие не собирались.
Самым неласковым словом поминают залоговые аукционы. Действительно, не нарядная история: государство взяло кредиты у горстки самых богатых банкиров страны, заложив под них самые сладкие и крупные активы — нефть, никель, сталь, порты. Взяло кредиты вроде бы на время, но быстро выяснилось, что и кредиты навсегда, и отданные за них активы тоже. «А ведь те активы были в разы дороже тех кредитов!» — повторяют люди с детской обидой.
Понятное дело, дороже! Только никто не припомнит очереди жаждущих дать за них больше. Иностранцев из приватизации исключили как класс, кроме горстки банкиров ни у кого в стране денег не было. Так, может, те активы и продавать не стоило? Отдали бы просто так региональным администрациям или «красным директорам», которые с конца 1980-х выводили с предприятий все, что успевали. Или трудовым коллективам, которые уже успешно сбыли с рук акции предприятий, полученные за ваучеры. Тогда было бы справедливо?
Особенно возмущает, что шустрые, заполучившие активы, начали с них стричь купоны, а то и банкротить предприятия. Так это их решение: разгребать ли авгиевы конюшни на предприятиях, лежавших в грязи и дерьме уже с десяток лет до этого, или выжать из них последнее и продать остальное по цене мусора. А ведь было по-всякому. В одни предприятия вкладывали бездну сил и всю выручку до копейки, учились производить и продавать. Из других «эффективный собственник» высасывал все деньги, выводил их в забугорье, а обглоданные кости банкротил. А бывало, что деньги, вбуханные в предприятия, только банкротством и можно было вытащить, потому что предприятие было не жилец. В плановой экономике его держало на плаву государство, и в какую копейку это обходилось нации — уже не подсчитать. Ах, при банкротстве рабочие лишились работы! Кто-то помнит рост безработицы в разы в 1990-х? Теряли работу на одном месте, находили на новом. Часто хуже, так тоже бывало, и это-то уж вспоминать будут все и всегда. А еще чаще бывало, что работу находили лучше, только об этом никто не вспоминает.
А вот то, что выжившие предприятия сумели наполнить прилавки, — это факт. То, что новые собственники в разы увеличили производство никеля, алюминия, стали, — тоже факт. То, что на пустом месте возникли новые отрасли — мобильная связь, банковский сектор, — еще один факт. И то, что весь этот частный сектор давал работу людям, причем не в одном центральном хед-офисе, а по всем регионам страны, куда шустрые дотянули свои «грязные щупальца», — тоже факт. Оскорбленные приватизацией не хотят видеть этих фактов, отмахиваются от того, что сейчас в частном секторе страны занято 62% населения, что все эти люди свободны, работают исключительно ради денег, а попутно еще и увеличивают ВВП, то есть общественное богатство.
Хотелось бы, чтоб все шло быстрее, чтобы при этом не было воровства и злоупотреблений, — это же тоже факт. Хотелось бы… В Германии же «немецкое чудо» — превращение побежденной страны в экономического лидера Европы — заняло всего 15 лет. Ну так в России никто не ставил перед собой цель достичь общественного согласия, единого убеждения в том, что рынок — это правильно, а капиталисты — не ворье. Что государство должно охранять собственность и равные права населения, а не только запрещать, обдирать налогами и прибирать к рукам все, что плохо лежит.
Никакой педагогикой свободного рынка, как это делала мадам Тэтчер, в России никто заморачиваться не собирался. «Мыслящие» способны только быть всем недовольными, они с легкостью перекинулись с бичевания КПСС на хулу «прихватизаторов». Государство же нагоняло словесного тумана, чтобы люди — упаси господи! — не решили, что же им нужно. Пока они этого не поняли, у государства руки развязаны. Когда валютные ипотечники выстраиваются в пикеты, им напоминают, что у нас рынок! Нечего, мол, требовать защиты: сами кредиты набирали — сами свои проблемы разгребайте. А когда ключевые активы — Газпром, «Аэрофлот» — в очередной раз собираются приватизировать, государство тут же вспоминает, что это национальное достояние и оно распорядится им куда лучше частных владельцев.
Так морочить людям голову можно лишь в том случае, если не стоит задача превратить граждан в просвещенных обывателей. Пусть у них сохраняется каша в голове — так удобнее манипулировать общественным сознанием.
На самом же деле главное разочарование в реформах 1990-х не от приватизации, а оттого, что слишком многие не сумели найти свое место в новой, рыночной системе отношений. В Великобритании времен Тэтчер тоже около 10% нации осталось на обочине, мало что получив от реформ. Только им и не врали насчет равенства и справедливости. Тэтчер добивалась понимания, что равенство — иллюзия, а неравенство — двигатель развития и самих людей, и экономики. Жизнь вообще штука несправедливая.
Масса россиян не вписалась в новые отношения — не были готовы к этому, в отличие от жителей восточноевропейских соцстран. Ведь там коллективистское устройство существовало менее 45 лет, а не 75, как в России. К тому же оно было принесено извне страной, которая воспринималась теми народами как оккупант. Тут, кстати, снова хочется сказать: «О, люди!..» Не умеют мелкие нации изживать исторические обиды. Германия и Россия простили друг другу столь многое, а Польша, Чехия и Венгрия никогда и ничего не простят России. Будут еще век клеймить ее за тоталитаризм, плюя на очевидный факт, что от этого марксистского тоталитаризма никто не пострадал больше самих россиян. Впрочем, мы отвлеклись…
Так вот, о тех, кто не вписался… Они сегодня твердят, что вписываться было не во что, вокруг них в 1990-х было сплошное воровство и бандитизм. Да нет, как раз именно до начала 2000-х у большинства россиян были огромные возможности скакнуть сразу через десяток ступеней вверх по социальной лестнице.
Научные работники с грошовой при социализме зарплатой создавали собственные компании. На людей со знанием иностранных языков был невероятный спрос: девчонки из инязов и пединститутов, начав секретаршами при своих шефах-банкирах, года через четыре становились вице-президентами банков, причем вполне заслуженно. Они учились на ходу. Сначала набивали на компьютере платежки на английском языке, потом освоили аккредитивы, а по ходу дела изучили и бухгалтерский учет. Инженеры по наладке техники становились технологами заводов и акционерами. Люди, мало-мальски разбиравшиеся в финансах, мгновенно обучались финансовому менеджменту «по-западному», становясь вице-президентами по инвестициям…
Не вписались те, кто не сумел понять, как изменились и сферы деятельности, и общественный спрос на услуги. На обочине остались многие из тех, кто так успешно двигался по проложенным рельсам Совдепии. Потому что мир изменился, другие личностные качества стали нужны для достижения успеха. Закрылись привычные пути, открылись совсем новые. Далеко не все смогли адаптироваться к этим переменам. А главное — к свободе, с которой надо было что-то делать уже самим, и для многих это оказалось непосильной задачей.
Удобно повторять, что Ельцин якобы развалил страну и довел ее до дефолта 1998 года. Миф популярный, но все было немножко не так. С середины 1990-х в стране был скромный, но устойчивый экономический рост. Дефолт 1998 года закрыл для России внешние рынки капитала всего на два года. И кстати! В начале нулевых — уже «сытных» и «тучных» — нефть стоила всего 18-20 долларов за баррель. Ниже, чем во время кризиса 2015 года, от которого страна до сих пор не оправилась. Но никто не считал это катастрофой.
Страна развивалась. Набирала силу рыночная, конкурентная экономика. Шло накопление капитала. Всем, кто сумел найти свое место в системе новых отношений, частный капитал стал давать достаток — порой скромный, а порой гигантский. На дрожжах приватизации развивалась конкуренция, которую теперь отождествляют лишь со стрельбой и бандитизмом. В экономике даже еще в начале нулевых шли структурные реформы. В стране появились реальные хозяева, которые стали создавать рабочие места и питать народ деньгами на своих заводах, в своих офисах и банковских отделениях в захолустье. Капитанам бизнеса давали время нарастить мясо на кости тех замшелых активов, которые они приватизировали не лучшим образом.
Мясо наросло, пришло время открыть дверь конкуренции с остальным миром. Сказать: «Подхарчились, ребятки? Теперь давайте посоревнуйтесь! ЛУКОЙЛ — с Chevron, РУСАЛ — с Glencore. Кто больше, лучше и дешевле? От вашей конкуренции и зарплаты, и налоги — одна сплошная польза…»
Но новые кормчие свертывали реформы. А потом и вовсе решили — хлопотно, ну их к лешему. Раз народ так истосковался по порядку, будет ему порядок вместо рыночного произвола. Доходчиво и популярно…
А тайну первоначального накопления в России так никто людям и не раскрыл. Не закончился еще этот процесс. Обыватели, продолжающие считать себе ограбленными без всяких на то оснований, вообще в этой истории никого не волнуют. Генералам от власти, которым в свое время тоже осточертел Великий строй — сколько можно обогащаться тайком и ползучим темпом? — тоже хотелось приватизации, но совсем не такой, которая была на виду у обывателей. Какие, к лешему, ваучеры? Есть намного более эффективный инструмент, который напоказ выставлять совершенно нет нужды. Административный ресурс называется…
Самое таинственное…
«Мы живем, под собою не чуя страны», — написал Мандельштам совсем по другому поводу — при «тараканище» земля, страна уходили из-под ног, жизнь висела в воздухе… Но в этих словах еще есть и наше «неощущение времени», которое унаследовали от дедов и прадедов наши современники. Мы не замечаем перемен, но они идут, пусть и медленно. За 27 лет страна стала другой, люди стали другими. Мы замечаем только, что деревня продолжает подыхать, но не видим, что по всей Центрально-Черноземной зоне страны растут агрокомплексы, расчистились поля, появились новые культуры, дороги стали вполне сносными. Мы не замечаем, что эти агрокомплексы сложили люди, которые когда-то были местной номенклатурой и сумели прибрать к рукам все стоящее в умиравших колхозах.
Процесс первоначального накопления ни на секунду не прекращался за эти годы. Когда через много лет его будут оценивать историки будущего, то вовсе не залоговые аукционы окажутся самой грязной его страницей. Ведь и сегодня в государственной собственности добра не перечесть. Аэрофлоты-Газпромы уже поминали, это у всех на слуху. Земля, которая приватизирована лишь местами, сотни тысяч ГУПов и МУПов, никому не подотчетных, — это же те самые средние предприятия, которые должны превратиться в крепкий частный Mittelstand — остов экономики любой передовой страны…
Едва ли люди в массе своей всерьез считают, что государственная собственность — штука и впрямь столь эффективная, что может дать народу достаток и защиту. Обыватель не дурак, знает, что государственная собственность нужна не для того, чтобы страна становилась сильнее, а для того, чтобы с нее кормились те, кто к этой собственности приставлен.
Коррупцию еще со времен Салтыкова-Щедрина причислили к врожденным свойствам российской натуры, что, конечно, полная чушь. Не бывает у народов врожденных черт, они — следствие, а не причина плохого общественного устройства, доказывал Милтон Фридман.
В странах по обе стороны Северной Атлантики людей грабили больше трех веков, пока шел процесс первоначального накопления, а капитал набирал силы. А потом самому капиталу потребовалась защита собственности — тут и возникло царство закона. И выросла культура, в которой присвоить чужое недопустимо. Заметьте, когда в Европе или Америке вскрывается — и нередко — коррупция, это касается, как правило, собственности государственной, а не частной. Кто будет красть у себя, тем более позволять другим это делать?
В России же мантра о сильном государстве рождала уверенность, что у этого государства красть можно постоянно и безнаказанно. В норму было возведено мздоимство за каждое чиновничье решение — от подорожной до урегулирования дел о наследстве. Дефицит Великого строя просто толкал на торговлю «через завмаг, товаровед и заднее крыльцо». Посмотрите недурной сериал «Дело гастронома № 1» — о директоре Елисеевского. Чтобы получать дефицит и чтобы удержаться на своей должности, надо было платить, платить и платить. Поставщикам, проверяющим, начальникам и их начальникам… По всей вертикали, вплоть до первых лиц страны.
Клептократия, отравляющая жизнь, это, увы, скрытая форма того же самого, еще не закончившегося процесса первоначального накопления. И этот процесс позначимее будет, чем какие-то ваучеры и залоговые аукционы.
Кому-то в результате приватизации достались сладкие активы, да их еще и из руин подняли, да на костях свежее мясо наросло? Так скорее за нож! Зачем ломать голову над обустройством рыночного общества, когда приставленные к охране сильного государства еще сами в новой жизни не обустроились. А мясо-то вот оно, перед глазами. Срочно кромсать, отбирать, прятать под собственные матрацы до лучших времен. Популярно объясняя народу, что мощь государства важнее богатства нации.
До нулевых капитаны бизнеса не думали, что скажут на Старой площади, если к капитанам придет иностранный инвестор и получит свою долю за вложенные десятки или сотни миллионов. «Лафа кончилась, — сказали стоящие с ножами. — Чужим за деньги отдавать? С какого ляда? Лучше своим и бесплатно». Капитаны и задумались. То нельзя, это нельзя… Сегодня прибыль есть, а завтра ее отрежут. Почему бы нам, капитанам, не вложить ее в Африке, к примеру как Дерипаска? Или в Берлине или Лондоне, как многие другие? Не только капитаны, ненавистные народу, так поступают, обычные люди тоже. Умерла бабушка, продана ее квартира — деньги тут же вон из непредсказуемой страны. Лучше халупа в Черногории, чем ферма в Твери. Кто знает, кому и когда придет в голову тебя ошкурить.
На наших глазах сменились три эпохи: Совдепия превратилась на короткие полтора десятилетия в свободную страну с рыночной экономикой, дикую правда, в которой, если по-честному, и законов-то толком не было, а те, что были, обойти было — раз плюнуть. Вырастить упорядоченные институты той экономике не дали, вместо этого неталантливые «государственники» объявили почти столь же мало талантливых «рыночников» ворьем, а сам рынок — вседозволенностью.
Стал развиваться тот самый капитализм с нечеловеческим лицом. И частному капиталу не дали простора, и генералы от власти принялись прибирать активы к рукам. В этом обыватель склонен винить рынок, но дело-то немножечко в другом. «Общество, которое ставит равенство выше свободы, не получает ни того ни другого. Общество, которое ставит свободу выше равенства, получает большую степень как одного, так и другого[105]», — сказал бы Фридман. Пока россияне сокрушались по поводу несправедливости приватизации, они прохлопали, что в стране так и не возникли свобода и равенство в правах.
Не только политические амбиции главы ЮКОСа определили его судьбу. Акционировав «Юганскнефтегаз», «Когалымнефтегаз» и «Самаранефтегаз», а затем позволив группе МЕНАТЕП «выиграть» залоговый аукцион по приватизации ЮКОСа, государство передало в руки команды Ходорковского огромный кусок государственного добра.
До поры до времени с этим мирились, но ЮКОС стал неприлично быстро развиваться. К началу нулевых он производил уже 22% всей нефти России, то есть больше Ирака или Ливии. Позволял себе нахально лоббировать интересы нефтяников. Как и все, недоплачивал налоги в совершенно неразвитой системе их начисления и сборов, которая тогда существовала. И политические требования главы компании — насчет сменяемости власти, подотчетности ее народу — выглядели просто вызывающе: как это создавать механизмы сменяемости власти, пока ни у кого из власти нет и малой толики того, что есть у Ходорковского?
ЮКОС — не единственный пример. Массе других, вполне лояльных власти капиталистов, народившихся в 1990-х, пришлось расстаться со своим капиталом. Хотя они и вкалывали, и давали заработок сотням тысяч наемных рабочих. Яркий пример — «Башнефть». Откопали нарушения, допущенные при приватизации тьму лет тому назад. О боже! А то в других предприятиях нарушений не было. Только «Башнефть» с какими-то другими не сравнить — за короткий период владения этим активом ее хозяин, Владимир Евтушенков, сумел превратить эту сравнительно небольшую компанию в крайне эффективную. Как же не прибрать ее к рукам государства? Чтобы потом ее… снова приватизировать, но уже в соответствии со сложившейся расстановкой сил в кланах истеблишмента.
Этот очерк — не памфлет по обличению власти, а объяснение незавершенности приватизации. Если все приватизировать, то как будут кормиться те, которые при административном ресурсе? Отсюда и мощь государственных предприятий, подгребающих под себя частные. А разного рода государственного добра в нашей стране сегодня будет побольше, пожалуй, чем во всей Европе в свое время. За добро идет борьба кланов, скрытая от посторонних глаз, до обывателей только отдельные отголоски долетают. Ну и скандалы, конечно, время от времени.
Административный ресурс не передать по наследству, да и при жизни его запросто могут отобрать. Зарплата российских чиновников, вопреки мнению обывателей, вовсе не космическая, где-то в среднем в районе 100-150 тысяч рублей в месяц, в разы меньше, чем в передовых странах. Сидит такой чиновник и распределяет, скажем, лицензии на добычу нефти или кобальта… Что можно тут ожидать? Чиновник сам мало что решает, над ним начальники, контролеры. Так что из этого? Вся эта орда считает себя ничем не хуже капитанов бизнеса. Орда тоже хочет отправить своих детей учиться в те самые Оксбриджи… И не только обывателям, а самым что ни на есть «мыслящим и образованным» до этого и дела нет, слишком сложны для их понимания скрытые пружины работы административного ресурса. То ли дело митинговать по поводу кроссовок или обличать реформы 1990-х и окружающую мерзкую жизнь, вплоть до погоды, которая мерзка всегда. А уж в очередной раз пройтись неласковым словом по приватизации 1994-1996 годов — это только повод дай. Ну не наивно ли сводить продолжающийся в стране процесс первоначального накопления капитала к одному эпизоду?
То и дело государство объявляет новую кампанию по приватизации, и каждый раз она заканчивается ничем. Самая недавняя кампания — 2016 года — предполагала приватизацию «Аэрофлота», «Совкомфлота», под вопросом — Сбербанка, «Роснефти», Газпрома. При этом, однако, хотели продать лишь миноритарные пакеты, то есть 10%, 15%, ну 20% акций. К тому же заявили, что продавать будут не по дешевке, а задорого, по истинной рыночной цене. И не абы кому, а только «стратегическим инвесторам», которые тут же примутся развивать компании.
Всем ясно, что из этого ничего родиться не может. «Стратегический инвестор» определяет стратегию компании, а у младшего партнера с 10-20% акций практически нулевые возможности на что-либо повлиять. Смешно даже предположить, что кто-то «задорого» купит акции с нулевыми правами.
Обыватель тут же нашел объяснение: «Так это же для инсайдеров!» Для топ-менеджеров самих госкомпаний, которые сами себе начислят бонусы, за них купят акции… Заметим, что эта нехитрая догадка ни у кого не вызвала гнева, сравнимого с возмущением по поводу приватизации 1990-х. Когда же приватизация-2016 оказалась пшиком — и этому нашлось объяснение: значит, там, наверху, не получилось договориться, сколько и почем топ-менеджменту выкупить. Возможно, и топ-менеджеры полагают, что мясо, наросшее на костях компаний, может быть и потолще, стоит подождать.
Но главное — нет гарантий, что не случится экспроприации в будущем. К примеру, топ-менеджеры купят акции, выжав из предприятия свои бонусы, а государство через несколько лет решит его снова национализировать. Не исключено…
И вдруг — или не вдруг? — продажа 19,5% «Роснефти». На нее стоит посмотреть чуть пристальнее. Акции выкупают англо-швейцарская компания Glencore — сырьевой трейдер, и Кувейтский суверенный финансовый фонд. Glencore платит всего 300 млн долларов из 10,5 млрд, а фонд Кувейта — всего 1,5 млрд. Всю сделку финансирует итальянский банк Intesa San Paolo. Каким образом? Об этом молчок. Но сделка интересна даже не этим.
Топ-менеджерам госкомпаний, покупающим акции компании, нужна хоть какая-то защита купленного. Невозможно вечно держать в офшорах на подставных лиц ни сами акции, ни доход, которые они приносят. Это как на пороховой бочке сидеть. Западный банк в любой момент может потребовать закрыть счет офшора — у Запада это вполне в ходу, раз мы сами создали себе во всем мире такую репутацию, что у русских деньги, как правило, грязные. Может отказаться переводить деньги в третьи места, детям, к примеру. А какой тогда от них прок? Да и акции можно отобрать — если такая вожжа под хвост нашим кормчим попадет, они сумеют найти нарушения при продаже. Нестабильность, однако, а хочется уже прочно легализовать накопленное, иметь возможность передать его по наследству.
Поэтому в сделку по продаже пакета акций «Роснефти» вовлекаются в качестве фронт-офиса иностранные инвесторы, чью собственность тронуть уже не так просто. Glencore, Кувейтский фонд, банк Intesa обложились юридическими гарантиями неприкосновенности их акций. Значит, и топ-менеджмент, выкупающий акции, будет под боком с этими акционерами чувствовать себя более защищенным. Правила же защиты акционеров в компании едины для всех.
Это чистая спекуляция, размышления, порожденные тем, что структуру сделки продажи части акций «Роснефти» решили никому не раскрывать. Но ведь просто так ничего не бывает. Вполне возможно, что это первая ласточка. Бюрократам уже больше хочется легализовать то мясо, что уже отрезано, чем резать его дальше, пихая под матрацы. Правда, на смену наевшимся чиновникам приходят новые, голодные… Невозможно сказать, в какой момент большинство приставленных к административному ресурсу решит, что уже пришло время защищать, а не резать, но в какой-то момент это явно произойдет, и тогда кто не успел, тот опоздал, — господа чиновники, извините! Превращение отрезанного в капитал станет большим приоритетом, чем тупое крысятничество. Но тогда же придется защищать и остальной частный капитал. И если ставить во главу угла не справедливость, а развитие, это будет шагом вперед.
Жутко цинично звучит. Хотя… Цинизм — это же оголенная правда.
Азиатские мотивы российской драмы
Речь не об «азиатчине» России, о чем любят порассуждать «мыслящие», оправдывая этим свою неприязнь к непонятному для них народу. В другом вопрос. Маркс, Кейнс, Самуэльсон, Фридман и остальные помянутые тут обществоведы, прямо скажем, гигантского калибра — они ж объясняли, откуда берутся деньги у передовых стран. Ясно, что искать их в странах отсталых — дело безнадежное, но нам-то надо понять, как запустить развитие в сегодняшней отсталой — повторю, отсталой — России. Отдельные соображения насчет развития можно, конечно, найти у каждого из помянутых тут авторов и даже много раньше — еще в XVII веке меркантилисты что-то бормотали на эту тему. Но вообще-то проблемой превращения отсталой страны в развитую ученые озаботились поразительно недавно, только в середине XX века. Тогда и возникла практически самостоятельная дисциплина — «экономика развития» (Development Economics) — и масса исследователей, опять же в передовых странах, принялась создавать теории развития.
А сами отсталые страны, они-то что себе думали? В них никаких теорий насчет собственного развития не возникало. Не болит об этом голова у населения отсталых стран. У «мыслящих», впрочем, тоже.
В России она уж точно мало у кого болит. В крупных городах пара миллионов человек спорят, ругаются, винят власть, народ, друг друга, даже пишут статьи порой, но никаких теорий из этого не рождается. Тем временем большинство народа живет как заведено: радуется, когда хорошо, горюет, когда приходят беды. Так вот именно в этом и отсталость России! Население категориями перемен не мыслит и суждений об общественном устройстве не имеет. Это в странах Атлантики у каждого есть мнение насчет развития своей страны, каждый считает, что это его непосредственно касается. То ли потому, что они давно знают, откуда берутся деньги, то ли оттого, что каждый год заполняют налоговую декларацию… У людей могут быть разные взгляды на общественное устройство, но у нации в целом всегда единые ценности, и нация от этого однородна.
А в России будто две планеты. На одной, маленькой, — движуха, митинги, споры. На другой, крупнее на порядки, — течение повседневности. Две планеты, две части общества движутся по разным траекториям. Между обитателями этих планет гораздо меньше общего, чем может показаться. Меньшинство тянется к атлантическим ценностям, большинству они непонятны и чужды. Экономика страны тоже будто сложена из двух частей, современный сектор гораздо больше торгует с заграницей, чем с российской глубинкой, капитал в глубинку тоже особо не рвется. Денег там негусто, зато проблем огребешь по полной. Ни сбыта, ни транспорта, да еще местная администрация — вообще отдельная тема…
Дуальная экономика — это сосуществование двух разных экономических секторов в пределах одной страны, разделенных разными уровнями развития и технологий и разными стереотипами потребления. Так теории развития формулируют понятие «дуальность». Вот тут мы и подходим к теме азиатских мотивов.
Теории развития возникли, когда колонии стали превращаться в независимые страны, и мир, тут же прозвав их «слаборазвитыми», озаботился их развитием. Самый большой интерес вызывали Азия и Латинская Америка: нищета там жуткая, хотя вроде бы, в отличие от Черной Африки, экономический потенциал как-никак приличный. Словечко «дуальность» гуляло по страницам статей, только оно мало что объясняло — ну есть два сектора, современный и традиционный, с двумя разными матрицами, значит, надо быстрее развивать традиционный, и все дела.
Надо-то надо, только это почти нерешаемая задача, как заявил Гуннар Мюрдаль, шведский ученый, еще один лауреат Нобелевки. Традиционный сектор стойко воспроизводит отсталость, старые уклады жизни и ценности людей. На материалах Индии, Пакистана и Индонезии Мюрдаль пишет книгу «Азиатская драма. Исследование природы бедности наций». Заявка, однако, ведь главная книга Адама Смита называлась «Исследование природы богатства наций». Так вот, природа «азиатской драмы» окончательно проясняет нам драму российскую.
В крупных многонаселенных странах Азии современный и традиционный сектора различаются не только по уровню развития — региональные различия есть в любой стране. В дуальных же экономиках два сектора различаются во всем — в укладе хозяйствования и жизни, в нормах и ценностях людей. Современный сектор крупных отсталых стран Южной Азии, Латинской Америки создает иллюзию, что эти страны движутся по траектории атлантических, но это кажущееся сходство…
Нам тоже казалось в 1990-е, что мы вот-вот станем как Запад. Жителей современного сектора России это воодушевляло, их соотечественников из традиционного сектора скорее пугало… Все на деньги мерить? Никогда такого не было… Один вздумал пасеку завести и теперь мед продает, дом новый строить собрался. Другой заброшенные колхозные земли к рукам прибрал — вон амбаров понастроил, скоро от зерна треснут, никогда такого не было. Не так буквально, но с появлением непонятных новых порядков смута в головах началась изрядная.
«Как все» мы, однако, не стали — пока по крайней мере. От этого «мыслящие и образованные» разочаровались в реформах, во власти, в народе — ну не хочет он меняться, хоть ты тресни! Живет прежними представлениями, жизнью недоволен, как и сами «мыслящие», но готов мириться с чем угодно. Что за народ?
Разочаровался и Запад. В 1990-е Россия была его любимицей, а к концу нулевых стала жупелом. Именно потому, что стать «как все» у нее не получилось, и в этом виновата ее власть. У власти, конечно, грехов не счесть, но даже самая золотая власть не сотворила бы чуда — чтобы за какие-то 30 лет Россия стала «как все». Мало кто понимает силу инерции, которая тянет нашу страну назад. Отсюда и враждебность Запада, сменившая любовь, и наши собственные нетерпеливые поиски разных фантазийных «моделей». А дуальная Россия всегда будет двигаться вперед своим собственным темпом, сообразно готовности ее традиционного сектора к переменам. Главное, чтобы она двигалась хотя бы в правильную сторону, не пускаясь от нетерпения в социальные эксперименты.
Откуда берутся несостоявшиеся народы?
Лет пять назад просвещенный мир зачитывался бестселлером Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail). Если в одной фразе — у них неправильные институты.
Развиваются страны с «интегрирующими институтами», то есть те, где человек включен в развитие. У него есть возможность зарабатывать деньги для себя и тем самым приумножать богатство страны, он ее сам развивает, и уж конечно, ему вовсе не безразлично, куда она идет: он же причастен к ее развитию. Проваливаются же нации с «экстрактивными институтами», которые выкачивают ресурсы — природные, людские. А человек вроде сам по себе, из процесса он исключен. Он — винтик, который не выбирает, где ему руки и мозги прикладывать, за него другие решают. На множестве примеров авторы разбирают развитие ряда стран Африки и Латинской Америки, за ними — застой в СССР. Не забывают и о Китае, где нищета времен Мао сменилась «экономическим чудом»…
Какое-то время страны с экстрактивными институтами могут развиваться, но их народам дела особо нет, идет ли развитие и куда, и рано или поздно все кончается провалом. В устройстве общественного автомобиля нет естественного двигателя — сознательного, свободного труда ради денег. Ресурсы выкачивают, а законы, по которым все крутится, не складываются в самоподдерживаемый механизм развития. Бедны африканские страны с их вечной сменой диктаторов, латиноамериканские страны с их хунтами. Великий строй провалился, а чудо в Китае продлится еще максимум пару десятков лет.
Как всем понравилось это объяснение! Только вопрос: а почему в одних странах — интегрирующие, а в других — экстрактивные институты и что делать нациям, которые проваливаются? И вообще, что такое институт? Короче, все возвращается к вопросу, как преодолеть отсталость.
В середине XX века сложились понятия «первый мир» — страны Северной Атлантики, «второй мир» — это СССР и его соцлагерь — и «третий» — слаборазвитые страны Азии, Латинской Америки и Африки, бывшие колонии. В «третьем мире» жизнь миллиардного населения совсем иная, чем в первых двух. Там отсталость, часто страшная нищета, нехватка еды и воды, чудовищная смертность и детский труд. И откуда в том мире могут взяться деньги — непонятно. Но раз уж эти страны стали равноправными членами мирового сообщества, долг сообщества — их развивать! А как?
Это были золотые годы теорий развития. Появилась концепции стадий роста, «догоняющего развития», «базисных потребностей»… МВФ и Всемирный банк, пытаясь запустить развитие бывших колоний, давали им уйму денег, строили хайвеи, железные дороги, порты. Где-то пробивались ростки развития, рождались островки промышленности… Ученые строили модели, как надо распределять общественный продукт, чтобы и в нижние этажи экономики просачивались деньги, которые генерят современные анклавы (trickle down effect). Но вокруг… Все та же традиционная бедность. Как стоячее болото. «Кумулятивные силы нищеты» (выражение Мюрдаля) не отступают. Авторы бестселлера «Почему нации проваливаются?» объяснили это отсталостью «системы общественных институтов», попросту стырив это понятие у Мюрдаля, но постеснялись у него же одолжить объяснение, почему система-то меняться не хочет.
Население стран Азии веками обрабатывало землю самым примитивным и трудоемким образом. Производительность земледелия крайне низкая, почти все произведенное потребляется, избыток произведенного над потребляемым так мал, что позволяет лишь подкармливать деревенские «верхи», но на него не купить даже современной рисорушки. Детский труд — естественное явление, а вовсе не результат какой-то эксплуатации, возмущавшей Маркса. Высокая рождаемость — не причина, а следствие такого устройства: чтобы больше производить, нужно больше рабочих рук, а тут еще высокая смертность. Никого не волнует вопрос «откуда берутся деньги?», потому что продавать нечего, а купить не на что.
В одиночку в такой экономике не выжить, помогает испокон веков сложившаяся иерархия каст и кланов, коммун и общин. Уклад жизни, представления о добре и зле сформированы раз и навсегда, равно как и культурные, религиозные, социальные и демографические нормы. То есть все элементы понятия «институт». Это традиционный сектор. Пока не появились колонизаторы, именно он и был общественным устройством, кроме него, даже в самых крупных странах, два-три города, возникшие вокруг портов или резиденций правящих династий, и все.
При колонизаторах возникло еще по паре-тройке городов в каждой стране, они развивались, в них складывалась первичная переработка кунжута, каучука, чая, риса, отсюда в метрополии уходили корабли, груженные рудой. Тут водились деньги, люди перенимали уклад жизни и ценности колонизаторов, потому что могли себе это позволить. Развивались те формы капитала, который Маркс назвал «допотопным», — торгового и ростовщического. Он дотягивался до традиционного сектора по цепочке сложившихся институтов — каст, родственных кланов, но эта связь работала в одну сторону. В современный сектор еще что-то перетекало — причем никаким эквивалентным обменом тут и не пахло, а вот обратно практически ничего, только выкачивалось.
Когда у людей отбирают ресурсы, которые могли бы им помочь развиваться, когда бедность воспроизводится, она неизбежно консервирует архаичные порядки. Колонизаторы ушли, а традиционные порядки так проросли в ткань общества, что современный сектор не охватывает полностью даже пространство крупнейших городов. В Мумбае, например, 21 млн жителей, тут и биржи, и банки, и промышленные группы. А посмотришь на трафик в городе — автомобили с трудом прокладывают себе путь через толпы рикш. В самом центре — почти Европа, а чуть отойдешь — трущобы, в которых один туалет на 30 семей. Без преувеличения. И те же традиционные уклады жизни.
Различия в организации производства и жизни людей в современном и традиционном секторах не желают сглаживаться. «Первый мир» помогает деньгами, займами, деньги оседают в современном секторе, тот развивается, кое-где — на удивление быстро. А вокруг болото как стояло, так и стоит…
Промышленные группы в Азии на первый взгляд — вполне капиталистические монополии, а на самом деле они сначала стали монополиями, застолбив поляны за своими кланами, а потом начали превращаться в капиталистические производства. Внутри них перемешаны самые разные порядки, нормы, практики, тут рыночные правила игры далеко не главное. Зато избыток дешевого труда — важнейший фактор: на современных автомобильных южнокорейских концернах соотношение оборудования и живого труда намного ниже, чем на автомобильных заводах Германии, рабочий день в полтора раза длиннее, детский труд — дело обычное.
Индия может быть лидером в каких-то новейших технологиях, в Бразилии пластическая хирургия круче швейцарской, в Южной Корее производится отличная бытовая техника и автомобили. А рядом на плантациях — тьма народу и все та же бедность. Сегодня, в отличие от времен Мюрдаля, в сельской Индии применяются не только удобрения, есть даже интернет-технологии (правительство крайне гордится тем, что налаживает онлайн-продажи и закупки), однако при этом бездорожье, как и сотню лет назад… Доля сельского хозяйства в ВВП — 27%, а занято в нем 65% населения, и эти две трети населения отрезаны от внешнего мира, живут прежними укладами, которые современный сектор переварить не в силах. Это остается фактом.
Мюрдаль объяснил, почему в азиатском традиционном секторе невозможен уход выросших детей на работу в город: зарабатывать они там будут копейки, они и грамоты-то не знают. А в деревне останутся родители, сестры и братья, куча стариков и детей, и каждая пара рабочих рук, способных растить рис или батат, — на вес золота. И никто этих парней в город не отпустит — ни семья, ни деревня, ни каста, а сами уйдут — будут прокляты. Про девушек рассказывать?
В России, конечно, нет давления демографического фактора и переизбытка рабочих рук, да и население пограмотнее будет. Но ее экономика и общество тоже дуальны.
Современный сектор — десятка полтора крупнейших городов — живет по другим законам, чем российская глубинка. Как и в слаборазвитых странах, в России современный сектор не может силой собственного движка втянуть в процесс развития традиционный. Современный сектор рвется интегрироваться в мировую экономику, и у него для этого есть и людской, и промышленный, и финансовый потенциал. Традиционный же замкнут на себе, с внешним миром, который представляется абстракцией, почти не соприкасается, люди о нем не думают и «как все» быть не рвутся.
Корни двух драм схожи: длительная колонизация. Только в России драма была внутренней. Из российской глубинки выкачивали все, что можно: зерно, уголь, черные и цветные металлы — все для нужд метрополии, для витрины Великого строя. Для экспорта, для того, чтобы в метрополии создавалась атрибутика передовой страны. В российском традиционном секторе тоже десятилетиями сохранялось примитивное земледелие — бабы втроем тянули плуг, заменяя собой дорогой трактор, продукты старого урожая кончались к марту. Выжить в одиночку было невозможно, а возможно — только за счет поддержки микросоциума, где бедность цементировала архаичные нормы жизни.
К тому же был и еще один институт колоссальной мощности. Партийная иерархия. Она позаботилась о том, чтобы выкачать из традиционного сектора и все мало-мальски пригодные людские ресурсы. Пожалуйте после армии на рабфак, в партию — и будет вам счастье. В провинции отправляли самый низкосортный человеческий материал рулить хозяйством и жизнью людей. Там всякого прочно отучали думать. При полном отсутствии информации и потребности в ней люди ориентируются на коллективный разум своего мирка, на разум местных чинов, а теперь еще и на жвачку, которой заполнены телеящики.
Российская дуальность
Сочи, роскошный отель Hyatt на море, европейский сервис и европейские цены, белье меняют каждое утро… А ночью окно даже на 14-м этаже не открыть, чтобы дышать морем, — дискотека под боком, в сооружении типа амбара. Оглушительно-живая музыка и пьяные крики до пяти утра.
Какие танцы с бубнами по ночам, есть же закон! Гости отеля жалуются менеджеру, тот обещает — согласно международным отельным практикам — принять меры. Ничего не меняется. Гости — к управляющему, тот отводит глаза. Массажистка недоверчиво спрашивает гостью: «Вы что, наехали на дискотеку "Маяк"? За ней же городская администрация стоит…» Вот и весь сказ: островок современного сектора не в силах переварить традиционные институты у себя под боком.
И это Сочи, город, на который вся страна пахала несколько лет. В него закачали триллионы государственных рублей, построив автобаны, тоннели, новую железную дорогу — практически то же самое, что делал в слаборазвитых странах Всемирный банк. Тут создали инфраструктуру туризма и развлечений. Кроме Hyatt понастроили отелей и Radisson, и Pulman, и Rixos. Тысячи рабочих мест в этих сферах, импульс для развития мелкого бизнеса в виде ресторанчиков, кафешек, лавок… Помимо бюджетных средств, власть еще и весь частный крупняк оброком обложила, и российские капитаны бизнеса добровольно-принудительно — субботник, ничего не поделаешь! — уже не думая о прибыли, строили тут навороченные жилые дома-башни, по большей части сегодня пустующие…
Никогда у государства не будет ресурсов, чтобы хотя бы каждый десятый город превратить в подобие Сочи. А сам Сочи — пример того, что только деньги, даже сумасшедшие, не могут преобразовать традиционные нормы. Добро б той массажистке было лет 50 и у нее в памяти сидел страх. Нет, ей 30, она родилась уже в новой стране, но в голове — врожденная уверенность, что неписаные местечковые порядки — данность. А уж стоит ли это менять — вообще для нее не тема. Ей нужно денег заработать, чтобы матери, живущей в поселке, помочь, кросселя модные купить, с девчонками в баре посидеть, а в идеале — и мужа найти…
Олимпийская больница в Красной Поляне по оснащенности и качеству лечения не уступит многим зарубежным клиникам. Сюда заманивали лучших врачей со всей страны, обещая суперзарплаты, квартиры… А инерцию традиционности с места не сдвинуть: в больнице уже нехватка медикаментов и материалов, зарплаты падают, квартир врачи все ждут… Больница-то бюджетная. А что ж ее в коммерческую не переделать ? В Красной Поляне ведь небедные люди на лыжах катаются! Можно же лечить, скажем, местных по обязательной страховке, а приезжих — за деньги. Да ни в жизнь врачи сами этого пробивать не пойдут, им это даже в голову не придет. Администрации курорта не придет тем более…
В современном секторе — в анклавах дюжины городов и пары столиц концентрируется более 90% финансовых потоков страны. Тут не только крутятся деньги, тут есть постоянная движуха, идет модернизация, пусть фрагментарная, процесс накопления и инвестирования капитала. Тут есть банки, действуют фондовые рынки, есть крупный частный капитал и средний класс.
Служащих и сотрудников бюджетных сфер здесь существенно меньше, чем в остальной России, если не считать, конечно, московско-питерских правительственных орд. Человек либо собственник, либо наемный рабочий, продает или товар, или труд и в любом случае вступает в конкуренцию. Тут надо внедрять новое, учить языки, знать модные слова «аудитор» и «рекрутинг». Расстояния не преграда, ты ездишь по миру, отдыхая по средствам в Куршевеле или Черногории. И все лучше понимаешь, что ты — индивид, человек в большом мире, который умеет себя в нем позиционировать и даже сам может «включить» себя в создание общественного богатства, а то и — страшно сказать! — даже побороться за свои права. Тут театры и «Википедия», «Гугл» и «Яндекс». Тут идет процесс обновления ценностей или хотя бы брожение умов.
Провинциальные небольшие города, райцентры, поселки, деревни — традиционный сектор. Из современных атрибутов здесь только пара ресторанов да торгово-развлекательный центр в соседнем городе побольше, где и тусуется в безделье школота. Тут уже есть мобильные телефоны, иномарки, кока-кола и импортный ширпотреб, но, по сути, тут бедность. Это видно и по домам, и по подъездам, и по дешевой одежде.
Произведенное потребляется в основном на месте, объем производства определяется емкостью рынка в радиусе от полей до областного центра. Дорог мало, хранилищ тоже, транспорт дорогой, кругом перекупщики и поборы. Исчезает смысл инвестиций в производство. У денег здесь иное измерение, рубль более весом, чем в Питере и Москве. Тут работают ровно столько, сколько нужно для удовлетворения базовых потребностей (в теориях развития они так и назывались — basic needs), понимая, что нет смысла в дополнительных усилиях. Выше головы не прыгнешь.
Основной работодатель — государство, бюджетные деньги. Работы катастрофически не хватает. Хорошо хоть земля есть. С нее можно кормиться и гнать самогон — у большинства свое хозяйство, огороды, приработки от мелких ремесел. И вроде рынок тут никто не отменял, но его «естественные законы», равно как и писаные правила, значат куда меньше решений верхов и просто коллективного разума.
Капитал современного сектора сюда идет неохотно, разве что местный — нет рынка, то есть сбыта, то есть денег. Нет пригодного человеческого материала для работы на современном производстве. Учить людей нужно долго, а те — хоть работы и не хватает — особо не цепляются за новые возможности. Мол, понаехали тут пришлые и свои порядки устанавливают, думают, мы под их дудку плясать будем… По той же причине отток людей в современный сектор незначительный, разве что в областной центр. А в столицах и крупнейших городах — что могут предложить выходцы из традиционного сектора? Среди них нет готовых инженеров или бухгалтеров с английским хотя бы среднего уровня. Как и в Азии, молодежь традиционного сектора, помечтав о крупном городе, понимает, что там она едва-едва на еду сможет заработать, а еще жилье… И дальше областного центра, за редким исключением, не едет.
У человека в традиционном секторе нет и не может быть личной ответственности за свою судьбу. Живет как все, он всего лишь часть понятного ему сообщества. Интернет? Да, есть, но больше для того, чтобы сидеть в «Одноклассниках» или скачивать блокбастеры и сериалы. На информацию спрос мизерный — какая практическая польза от знания о том, что происходит в мире, который человека не касается? Зато есть поверья, приметы, есть церковь, наконец! Она совершенно не напрягает ум проповедями, запрещая лишь роптать. Несмолкающее эхо традиционного крестьянского мира раскатывается сегодня и по городам, мутируя в современный язык, но жизнь современного мира не отражая.
От 30 до 80% экономики Северного Кавказа, Астраханской и Ростовской областей — это полунатуральное хозяйство и так называемая «этноэкономика». В ее основе — люди, занятые сельским хозяйством и переработкой природных продуктов, а на верхушке — производители и торговцы, продвигающие произведенное в региональные города, в редких случаях — дальше. Производство покоится на отношениях клановой иерархии, большая часть хозяйственных отношений — «в тени»: «свои» проверяющие и есть «свои», а чужие не доберутся.
В Бурятии же, к примеру, другая картина: меньше пьянства, больше порядка, люди на удивление осмысленные. Это иной тип простого воспроизводства, все берется от природы. Тут рыба, тайга, охота. Тут туризм, развивающийся в окрестностях Байкала, а это дело требует смекалки. Потребности пошире, чем базовые, но личное накопление и инвестиции ограничены новым домом и японским автомобилем. Автомобили нещадно бьются на бездорожье, отчего все ездят на поразительно новых машинах, где непременно есть дешевый видик с фанерной попсой. Создается иллюзия чего-то современного, но, по сути, этот мир так же замкнут на себе.
Определяющим признаком современного сектора является даже не размер города, а степень мобильности факторов производства — капитала и труда. Для нефти и газа есть транспортная инфраструктура. «Труба» втягивает этот сегмент в современное воспроизводство, трансформирует и жизнь людей. Индустрия становится интернациональной — Западная Сибирь снабжает нефтью и газом пол-Европы, люди ездят по миру, заключают контракты, покупают технологии… Отдых за границей, машины импортные, квартиры — в собственном городе, а еще и в Москве, а в придачу и домик на Средиземном море. Вот это современный сектор, потому что нефть и газ сделали мобильными и капитал, и рабочую силу.
Сибирский лес — совсем другая история, он немобилен. Поэтому современных предприятий ЛПК кот наплакал, «зеленое море тайги» — оно больше для охоты и собирательства. Сколько из этих сосен можно было бы сделать домов, стройматериалов, мебели… Увы, до мирового рынка при такой транспортной составляющей не дотянуться, а ближе платежеспособного спроса нет.
Ханты-Мансийск (с трубой) более современен, чем Красноярск (с лесом). Хабаровск — невероятно открытый город, заграница рядом, из внешнего мира сюда перетекают новые практики, управленческие подходы, образ мышления. Хабаровск намного более интегрирован в современный мировой сектор, чем почти равная ему по размеру населения Тула, с ее промышленностью, в основном оборонкой, у которой всего один покупатель — государство. Так тут и воспроизводятся отношения и практики Совдепии.
Анклавы современного сектора вкраплены в Красноярский край в виде производств алюминия, никеля и электроэнергии, в Пермский — в виде нефтепереработки и научно-технических центров, ориентированных на добычу и переработку нефти Западной Сибири. Даже в небольших городах Центральной России есть крупные современные анклавы — Komatsu в Ярославле и Volkswagen в Калуге формируют современных менеджеров и рабочих, создают налоговую основу для социальной защиты из городского бюджета, а не с приусадебного огорода.
Совокупное население городов России с населением более 500 тысяч человек составляет всего 44 млн, при этом не все это население целиком входит в современный сектор. Можно считать разными способами — по размеру городов, по профилю индустрии, по размерам предприятий. По любому выходит, что современный сектор России — это 30-35 млн человек, а традиционный — 100-110 млн, около 75% населения.
Так что вполне объяснимо, почему Россия так медленно развивается и кажется, что ничего не меняется. Меняется, только медленно и мучительно. А живучесть традиционных порядков и «старых идей» (выражение Кейнса) все продолжает отравлять мозги совсем молодых, уже родившихся вроде бы в другой стране, — вроде сочинской массажистки. И это тоже консервирует традиционность. Государство одной рукой пытается что-то развивать, а другой создает опять-таки экстрактивные институты. Откуда возьмется рост рынка, совокупного спроса и как следствие — вовлечение человека в производство денег, если нет минимума дохода, не облагаемого налогом, и даже с зарплаты 10 тысяч рублей нужно отстегнуть государству? Вспомните рассуждения о налогах в очерке о Маргарет Тэтчер!
Есть и недовольство, и бездонная апатия, и откровенное людское горе. Но для большинства какое-то другое, более дружелюбное к человеку общественное устройство — совсем не мечта и не ценность. В отличие от огорода, модных кросселей или зомби-ящика в импортной тачке. Это пусть в столицах насчет власти и устройства страны языки чешут… Население России не складывается в единую нацию, люди не пытаются договориться о том, куда хотят идти и где их общий путь к деньгам… Да больше того: все уверены, кого ни спроси из обывателей, даже соображающих, что общего пути к деньгам в России просто быть не может. У тех, наверху, свои расклады, а мы тут сидим и место свое знаем, и чужого нам не надо, и всех денег не заработаешь… В какой еще стране есть такие присловья?
Ценности — штука основополагающая
Ценности — это то, что делает любую теорию приложимой или неприложимой к конкретной стране в конкретный период. Ведь «что русскому хорошо, то немцу — смерть», и наоборот. В любой теории «исходные суждения о ценностях должны вводиться открыто. Они не могут быть ни apriori самоочевидными, ни универсальными»[106]. На этом настаивал Гуннар Мюрдаль, когда объяснял, почему теория развития, приложимая к современному сектору, не работает в традиционном.
Как билась Тэтчер, стремясь изменить ценности соотечественников! «Работяг поднять и поставить на ноги, лодырей — вон» — куда уж более незатейливая максима, а ведь и она не всем была очевидна. А ее другое убеждение — «Что стоят способности человека, врожденные и развитые, если отнять у него возможность выделяться среди остальных». Это звучало для большинства и вовсе ересью. Тридцать лет до прихода Тэтчер к власти в головах британцев была каша, которую варило «Государство-Провидение». В обществе вместо единства — анархия. «Тэтчеровская революция» была победой идей, люди пришли к согласию, сами включились в создание новых норм и практик, которые тянут вперед развитие.
Не только Британия, другие страны Атлантики тоже переживали духовный раздрай, вступая в общество потребления после скудной послевоенной жизни. В итоге «старые ценности и обычаи покрывались патиной времени, традиционная мораль отправлялась в лавку старьевщика»[107], на смену им приходили новые, которые постепенно начинала разделять вся нация.
В слаборазвитых, по выражению Мюрдаля, обществах иначе. При диктаторских режимах население не разделяет ценности свободы, в нищете деньги не ценность, в границах традиционного сектора понятие «накопление» — абстракция. Что-то скопить? Разве что приданое для дочери и денег на свадьбу, ведь традиции и обряды — это святое. Человеческая жизнь как таковая тоже не ценность — при такой-то смертности. Личная ответственность — понятие умозрительное, люди привычно полагаются на помощь своего микросоциума — деревни, коммуны, общины идут за защитой к администрации и безропотно признают ее неписаное право на произвол. «Мы ж так всегда жили…»
Как цеплялось наше сознание за веру в Великий строй! А как с наступлением «оттепели» скорбели многие, что «народ распустили». Как сегодня — в глубинке повсеместно, а в крупных городах местами — немало людей верит, что Сталин превратил отсталую аграрную страну в передовую. Или в то, что мы и сейчас способны победить Запад в новой войне, если придется…
Уже 27 лет мы живем вроде бы совсем по-другому — так или иначе кругом уже сплошной рынок. А включиться в процесс зарабатывания денег, ломая попутно стереотипы прошлого и расшатывая традиционные институты, пытается только ничтожное меньшинство. Да, мало социальных лифтов — это факт, но как мешают старые привычки и ценности!
Еще один житейский пример, столь же простой, как и сочинская дискотека. Брат и сестра, обоим за полтинник. Брат давно выучился в Москве, они с женой — преуспевающие люди: квартира, дом, две машины и поездки по миру. Сестра живет где родилась — в райцентре под Орлом. Муж умер от пьянства, она ушла на пенсию, живет скудно. Брат помогает деньгами, сестра берет охотно и благодарно, она вообще очень хороший и добрый человек.
Время от времени брат со женой перетряхивают гардероб… И говорят сестре: «Мы тут два чемодана набрали. Вещи — все как на подбор. Крепкие, качественные, сплошь брендовые. Многие почти неношеные — дети из них выросли. У вас же на рынках продают китайские кроссовки за пару тысяч рублей, а они за одно лето разваливаются. Возьми эти два чемодана и продай все барахло на рынке…» Как вы думаете, что они слышат в ответ? Сестра отказывается. Она не может стоять на рынке, торгуя тряпками, «прям как спекулянтка или торгашка какая». Ей стыдно перед людьми, ей противно это делать. По вечерам она идет мыть унитазы в районном суде за 4000 рублей в месяц. Это не стыдно и не противно. Вполне вписывается в каноны ее социума.
Об эти традиционные стереотипы и спотыкается развитие. Жители современного сектора и население глубинки кажутся друг другу обитателями разных планет. Это и есть подлинная российская драма. Не менее глубокая, чем азиатская.
Почему Россия — не Китай?
Уже навязли в зубах мантры государственников насчет того, что в Китае нет никакой демократии, а смотри, как прет, и почему бы нам не ориентироваться на китайский пример, и вообще, почему Россия — не Китай? Почему? Да именно потому, что не Китай! Если кто-нибудь дал бы себе труд объяснить россиянам устройство «китайского чуда», те бы взвыли: наше общественное устройство в сравнении с китайским — рай!
Еще при Дэн Сяопине Китай сделал рывок вперед и создал собственный современный сектор. Государственный. Частный капитал допускается в него при условии полной лояльности пекинской властной элите. Что и делает китайское развитие столь привлекательным для такой же элиты российской.
Большинство государственных предприятий перестало работать по государственным планам, начали ориентироваться на прибыль — такую задачу поставили им сегодняшние власти. Колоссальное реформаторство в сравнении со временами Мао. За счет этого миллионы людей включились в развитие, они и сформировали современный сектор, обеспечив поражающие всех темпы роста. Государство же обеспечивает условия, каналы для привлечения иностранного капитала, технологий — возникают и развиваются новые институты. Только и традиционные никуда не деваются, вот в чем загвоздка!
Для основания собственного бизнеса нужно покровительство властей — тот же административный ресурс, вид сбоку. Бизнесы, связанные с элитой Пекина, получают практически все госзаказы и контракты, могут безнаказанно сгонять людей с земли и отбирать ее для собственных целей, нарушать писаные законы. Те, кто встанет на их пути, могут быть запросто отправлены в тюрьму («Вы наехали на эту дискотеку? Не страшно?» — чувствуете аналогию?). Нет защиты прав собственности, экспроприация бизнеса государством — дело обычное. Совершенно традиционная иерархия отношений.
Не случайно в Китае нет своих изобретений — для них нужен интеллект свободного человека. Производство обеспечивает себе конкурентоспособность более дешевым копированием того, что изобретено в передовых странах Атлантики и Японии. За счет дешевого труда. Зарплаты мизерные, рабочий день — 16 часов. Кому из россиян это понравилось бы? Мобильность труда строго контролируется — уйти с предприятия, переехать в другой город практически невозможно. Рабочие живут в бедности, нет среднего класса, узаконен институт детского труда. Нет пенсионного обеспечения и вообще какой-либо системы социальной защиты. Регулируется доступ к информации, не говоря уже об интернете. Мы этого хотим?
Лишь 20-25% китайцев — современный сектор — получили доступ к деньгам и новый уровень достатка. Большего, чем при Мао, но все равно мизерного. Имущественное неравенство между населением и элитой колоссально. Мы этого тоже хотим?
Китайский опыт детально описан в книге «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Когда-то в 1950-1960-х Советский Союз представал альтернативой рыночным демократиям Запада, которая могла привлекать людей и страшить западные власти. Так и теперь многим россиянам и властям нашей страны Китай кажется привлекательной альтернативой. Тем более что успешный рост сам по себе вроде бы оправдывает и внеэкономические способы ручного управления со стороны государства и в Китае сложившаяся система институтов пока работает. Как работала до поры до времени советская индустриализации и послевоенная плановая экономика.
Конечно, нынешний экономический рост в Китае намного более диверсифицирован, чем было в СССР, где все главные достижения приходились на тяжелое машиностроение и оборонные отрасли. Конечно, там растет частный капитал. Но рост экономики в Китае рано или поздно выдохнется. В машине закончится пар. Или бензин, не важно. До тех пор, пока населению не дадут включиться в процесс развития, экономика не станет самоподдерживаемой. «Мы полагаем, — пишут Аджемоглу и Робинсон, — что рост с подлинно внутренними, собственными инновациями и прогрессом не придет в Китае сам по себе и ошеломляющие темпы роста… неизбежно сойдут на нет»[108].
Развитие экономики в Китае в последние 10-15 лет идет за счет того, что в чуть обновленной реформаторами сверху системе институтов населению дали мотивы к труду в виде денег и ровно в этой мере его «включенность» в развитие возросла. При Мао стимулов и мотивов не было в принципе. Вновь возникших стимулов уже хватает для массового копирования технических и производственных решений, купленных на Западе, и для собственных точечных новшеств. Но экономика не генерит в массовом порядке новых технологий. Пекин никогда не станет лондонским Сити, который возник будто из воздуха при Маргарет Тэтчер. Китай продолжает оставаться отсталой страной, пусть он и наводнил весь мир своими дешевыми товарами сносного или даже приличного качества.
А кроме Китая, есть еще удивительная страна Куба! Еще одно «чудо». То, что Асемоглу и Робинсон называют системой экстрактивных институтов, а в этой книге называется внутренней колонизацией, на Кубе цветет махровым цветом. Элита и прикормленные слои режима с его строго регламентированными институтами эксплуатируют вместо колоний основную часть собственной страны.
Так было в России со времен крепостничества, в течение всего большевистского правления, в течение всего периода Великого строя. Так было на Кубе времен братьев Кастро. Лишь перед самой смертью главного псевдомарксиста страны, Фиделя, ему пришлось начать разжимать клещи — страна оказалась в таком же экономическом тупике, как и Россия в последние годы Великого строя. Но госсобственность сохранилась, рыночные запреты тоже. Ценности людей не поменялись. В результате — та же дуальность!
На Кубе она потрясает. Будто на машине времени ты вернулся в «совок» 1980-х. Дома в центре Гаваны стоят полуразрушенные — совсем как особняки в московских переулках до начала нулевых. В магазинах, кроме хлеба, молока и ветчины (свинина — базисный продукт на Кубе), купить можно только полиэстровые рубахи, ацетатные брюки и китайские кроссовки… Воду из-под крана пить нельзя, дорог на всю страну штуки так три. Понятное дело, везде натуральное хозяйство, в лучшем случае — полунатуральное, если излишек удается довезти до городов, которых тоже всего штуки три.
А рядом — современный сектор, туристический… Только, кроме Гаваны и полоски пляжей по обе стороны Варадеро, где селят туристов, в стране нет ни одной гостиницы. Ни одной! Ни в одном из единичных городов, даже в Тринидаде, куда туристы рвутся, чтобы поглазеть на колониальную архитектуру. Там можно переночевать только в частном доме, а съесть без риска для жизни можно разве что хлеб и яичницу. Питьевую воду придется уж на себе переть из Гаваны или Варадеро.
И даже «современный сектор» поражает отсталостью. Кокосовых деревьев — что в России берез. Зайдешь в бар, даже в самый лучший — в отеле National в Гаване — и закажешь Pina Colada. Ожидаешь, что сделают тебе коктейль, конечно, на свежем кокосовом молоке. Дудки! Его сделают на коровьем (!) порошковом молоке, дольют в него ром и насыпят… из пакета кокосовый порошок вперемешку с сахаром. Порошок делают из кокосов, которые перерабатывают на единственном в стране предприятии по переработке кокосов.
Лимон! Куда уж незатейливей, лимонные деревья тоже кругом стеной стоят. Не пытайтесь в ресторане к рыбе просить лимон. Лимоны в ресторанах не водятся. Их производят на государственных плантациях и перерабатывают на единственном заводе в сок, который разливают по пластиковым флакончикам. Вот флакончик вам к рыбе и принесут. И не спрашивайте, почему сок в нем пахнет стиральным порошком.
Впрочем, это скорее про «чудеса». Дуальность немного в другом. Помните магазины «Березка» и сертификаты на покупку импортного шмотья? Один сертификат стоил 5 рублей, а в период агонии Великого строя уже 6, а то и 7 рублей. На рубли можно было купить… «Лапшу яичную», а на сертификаты — что душе угодно.
Так вот, вся Куба — одна сплошная «Березка». В стране две валюты! Не встретить большего проявления дуальности. Есть песо для внутреннего пользования (считай, деревянные рубли). Средняя зарплата в этих песо — 400-500 в месяц. На них можно купить хлеб, ветчину или ацетатные штаны, ничего иного в магазинах нет.
Параллельно ходят конвертируемые песо, в просторечии «куки» (CUC — Cuba unit convertible). Один «кук» стоит полтора доллара или 25 внутренних песо, такой курс государство назначило. Получается, что средняя зарплата составляет 22-25 долларов в месяц — правда, традиционный сектор Кубы этих «куков» в глаза не видел. Зато в современном секторе без них никуда — только «куками» можно платить в отелях и ресторанах и даже в захолустных барах, только за них продают билеты в театр или на шоу, и даже таксисты берут только «куки». То есть местному населению такси не положено. Все это только для туристов и для… занятых в «современном», туристическом секторе. Для тех же таксистов, официантов, служащих отелей, барменов и прочей обслуги. Но никак не для тех, кто делает лимонный сок или работает на электростанциях.
Эта псевдоэлита свысока смотрит не только на соотечественников, но и на туристов, которые на самом-то деле и оплачивают ее псевдоэлитную жизнь. Даешь чаевых два евро или два «кука» официанту, получаешь в ответ взгляд, будто ты ему в лицо плюнул. Хотя на самом деле ты дал ему 50 внутренних песо, то есть подарил, считай, штаны. Где еще на чаевые можно штаны купить?
Брак мышления, опять он — не иначе. И «куков» хочется, и на туристов смотрят как на слабоумных лохов, и абсолютная уверенность в собственной избранности и в величии своей страны. Подумаешь, какие-то туристы — у них хоть карманы от денег и распухли, но они же приехали из своей обычной Канады или Германии в великую страну! Должны понимать свое счастье и платить за него по полной. А что страна великая — в этом сомнений быть не может. На каждом третьем здании — портрет Че Гевары, сувенирные лавки забиты майками с его портретами, пилотками Фиделя, красно-сине-белыми кубинскими флагами. Ежедневная — и единственная — газета Granma, официальный орган компартии, в день моего отъезда с Острова свободы вышла с передовицей «Куба все равно победит!». Кого победит и почему все равно?
К чему эти истории — китайская и кубинская? Все к тому же — к вопросу, откуда берутся деньги.
Есть только два способа побудить человека трудиться. Либо ради достатка, выгоды, то есть ради денег. Либо по принуждению, под страхом наказаний, голода и смерти. Скажете, вы уже тут это слышали? Вот и запомните раз и навсегда.
В основе современных дуальных экономик лежит все та же фундаментальная альтернатива. В современном секторе трудятся ради денег, накоплений и лучшего будущего для детей. В традиционном — даже если нет «красных кхмеров» и флагов с серпами и молотами, — чтобы выжить. Ни о чем ином там голова думать не может.
Россия — легкая мишень
В 1990-е — всего 10 лет, один миг! — Запад упивался иллюзией. Россия — darling of the world. В ней демократия — плюнем на обстрел парламента. В ней частная собственность и рынок — залоговые аукционы спишем на издержки революции. Тони Блэр в восторге от образованного и энергичного лидера России — тот уверенно превращает страну в европейскую державу. Клинтон на излете президентства заявляет, что Россия — равноправный партнер. Россия была любимицей недолго и, кстати, без особых на то оснований… Уж больно медленно в ней все менялось.
Либералы команды нового президента — Греф, Кудрин, Волошин, Чубайс, Касьянов — бились над реформами, укрепляли институты рынка. Чего они не ожидали, так это того, что им будет ставить палки в колеса Запад, который еще вчера был от них в восторге. После 1998 года страна была обвешана долгами и Парижскому клубу (государствам Запада), и Лондонскому (международным банкам). С Лондонским клубом Касьянов договорился влет. Парижский же заявил: «Никаких отсрочек!» Из-за денег? Нет, чтобы повоспитывать.
Россию тогда приняли в G8, в клуб «больших мальчиков», где ей самое место, а сильный должен платить, и Россия заплатила. Тогда существовал и договор с НАТО о том, как Россия будет становиться членом альянса, казалось, это вопрос времени. Еще немножко потерпеть, помочь, Россия станет как все… И даже Кремль верил, что идет игра по правилам, однако тумблеры уже начали незаметно перещелкиваться…
Россия — трудный подросток, не стать ей быстро такой, как все. Она слишком огромна, а ее анамнез слишком непрост. Историческая память, исковерканное сознание народа и вдобавок все, содеянное Союзом, — жуткая смесь. Никто ни в России, ни на Западе уже не помнит или не знает вообще ничего о дуальности слаборазвитых обществ, и Запад не в силах понять, что в России две страны. В российской глубинке, замкнутой на себе, прежние отношения и представления. Родина — мать, государство — отец. Личная свобода — это что, самому за все платить придется? За каждым кустом — враги, выжидают момент, чтоб тебя ограбить, а твою великую страну загнать за можай. Так мы и сами туда кого хочешь загоним.
С таким анамнезом сложно стать своим в стае «больших мальчиков». Разве что в роли шестерки. Эта роль не для России, она действительно великая страна. А энтузиазм Запада в отношении России продолжает умирать.
Сложно поддерживать русский современный бизнес, легче тыкать ему в нос грязным происхождением. Оно, конечно, грязно, только о каком сотрудничестве можно говорить, если считать российский бизнес нерукопожатным? Ведь нетрудно понять, что только он в партнерстве с Западом способен проникнуть в ту самую глубинку и помочь народу медленно изживать традиционные стереотипы.
Россия не переродилась в одночасье. Она будет перерождаться медленно, и любые подзатыльники Запада будут только замедлять этот темп. Отвлекая население страны от выработки новой системы ценностей на зряшное дело поиска внешних врагов. Это, если хотите, вина Атлантики.
При чем тут Атлантика, если дело в авторитарной власти и войне на Украине и в Сирии? При том, что, пусть даже из лучших побуждений, Запад помогал России, как помогают нерадивым ученикам совковые учителя — через угрозы и наказания. Крайне поверхностно представляя себе реалии России, не считаясь с ее амбициями, которые растили многие десятилетия, Атлантика очень легко сменила завышенные ожидания на полное разочарование. На трудном подростке поставили крест.
Плевать, что народ России неагрессивен. Пустите россиян за новую Берлинскую стену — в Шенген — от них будет куда больше пользы, чем от мусульманских мигрантов. Российские же мигранты — помыкавшись в свободе, пройдя через неспособность продать себя на западном рынке — вернутся на родину другими. Изжив мифы, познав вкус и рынка, и закона, и свободы.
Плевать, что Россия — это огромный рынок и ресурсы, что в жизненных интересах Европы — ввести их в оборот хоть на треть, на четверть. Вот это задача, а вовсе не перевоспитание. Но муторно… На собственной кухне проблем по горло. С Рашкой цацкаться — штучная работа, а вопрос-то мелкий.
Не вышло влет интегрировать Россию в цивилизованное международное сообщество. На диалоге с ней политических очков у себя дома уже не наварить. Пусть хоть жупелом послужит, что ли. Россия превратилась в easy target, легкую мишень. Для любого доходчиво — и в Атлантике, и в России. И это грустно.
Что мы отсюда можем вынести? Лишь то, что нельзя покупаться на политическую риторику. Атлантика нам не враг, а станет ли другом?.. Так ли уж это важно сегодня?.. У нас собственная трудная задача — преодолеть ценности колониальных времен и скорее включаться самим в процесс развития своей страны. Кроме нас самих, путь к деньгам нам никто не укажет. А там и друзья появятся. Что ж не дружить с соседями при деньгах!..
Так где же деньги?
Вся эта книга — о законах, по которым создаются деньги. Либо свободным трудом свободного человек, и тогда люди сами превращают свою страну в передовую. Либо — трудом человека, отдавшего свою свободу государству ради иллюзии справедливости и равенства. Тогда и денег на порядки меньше, и достаются они не людям, а государству. Оно может при этом делать и атомные бомбы, и крылатые ракеты, но большинство людей все равно будет только выживать, а страна — оставаться отсталой.
Мы живем в реальной России. Не выдуманной и не потерянной… У нее есть все, чтобы стать передовой страной. Мешает только брак мышления. В крошечном, но все же здорово подросшем за последние 30 лет современном секторе, и в традиционном, — две разные системы ценностей, но в каждой есть свой брак.
Огромный традиционный сектор растили веками. Внутренняя колонизация — и дореволюционного покроя, и образца Великого строя — высасывала силы народа и убивала его самостоятельное мышление. Сегодня на принудительном или бесплатном труде уже ничего не построить, но историческая память о лагерных бараках убила веру миллионов в свои силы. Гражданам легче верить в государство — что, впрочем, не мешает им все время что-то у этого государства тырить. Зато, переполняясь гордостью за него, смотреть военный парад и ронять слезу при звуках гимна — это ж наша традиция! Желание делать деньги уже глубоко проникло в традиционный сектор, только держится оно все на тех же ценностях рабов, а не свободных людей: делать дела «по понятиям», доверять своим, кидая чужих, не платя даже мизерных налогов, потому как «а зачем?». А какая огромная часть этого сектора все еще пребывает в спячке, считая, что честным трудом ничего не заработать — это твердо усвоено за долгие годы внутренней колонизации — «живем как люди, не хуже других».
И что же делать действительно мыслящим и образованным, без всяких кавычек? Только вести на отведенном им жизненном пространстве «борьбу идей». Разговаривать, объяснять, доказывать — но со знанием дела. И уметь слушать и понимать людей, совсем, казалось бы, на тебя не похожих.
Некогда, голова не тем занята. Мыслящие и образованные сами «закавычивают» свою жизнь, у них свой брак мышления. Их нетерпение — от того, что Россия продолжает вязнуть в отсталости, — так велико, что они не способны увидеть никаких достижений на том пути, который пройден людьми и страной за последние 30 лет. Как же им мешают те, кто «понаехал тут из мухосрансков», а уж те, кто живет и всегда будет там жить, — вообще инопланетяне.
Для «мыслящих и образованных» наполовину полный стакан всегда пуст, и с этой позиции они не сдвинутся. Все плохо, все страшно плохо. И власть, и народ, и погода… Они все еще остервенело спорят, вместо того чтобы признать — люди поумнее уже давно все объяснили про эффективное и неэффективное общественное устройство. Откройте глаза — вы сами увидите в России две страны. Надо только сформулировать это для себя и для других. Тогда не придется нагонять словесный туман — насчет того, что теория Маркса устарела, а Кейнс и Фридман к нам неприложимы. Что путь передовых стран — это не про нас и что у нас есть какой-то собственный, «особый». К деньгам и развитию путь один — о нем эта книга. Все поиски чего-то иного вели только к отсталости, к государственному насилию и равенству нищеты, от которых до лагерных бараков уже рукой подать… А если вам это «и так понятно», то о чем спорить? Для начала найдите между собой согласие, а потом донесите его хотя бы до небольшой части того народа, который сегодня слышит только отголоски вашей брани в его адрес. Его сознание, а не ваши идеалы определяет и всегда будет определять и темп развития страны, и степени свободы, и саму власть. Потому что традиционная Россия намного больше, чем все анклавы банкинга, маркетинга, промоутинга и прочего рекрутинга, вместе взятых. Это большинство никаким иным стать и не могло, все вполне в рамках теории Маркса, точно по лекалам, которые неспроста так страшили Тэтчер и Фридмана.
«Умники», считающие весь народ недоумками! Если вы умнее, так и будьте умнее! Не вставайте в позу обиженного подростка, пора уже осознать, где мы живем. Народ не глуп и не виноват в том, что его жизненное пространство, его силы и ум калечили веками. Если вы умны, так примите на себя ответственность за судьбу страны. Только вы можете начать движение двух Россий навстречу друг другу. Перманентный моральный конфликт, гражданская война ценностей — единственное препятствие на пути к деньгам и развитию.
Мы все в одной лодке. У тех, кто жаждет свободы, закона и рынка, тоже только два пути. Либо медленно подтягивать сто миллионов граждан к своему уровню, что дико сложно. Либо и дальше вести моральную гражданскую войну, распаляя себя страшилками о неизбежном колоссальном социальном взрыве.
Его не будет. Народу даже в самой что ни на есть глубинке уже есть что терять, он уже полюбил деньги. Помогите ему понять законы, по которым они создаются.
Не будет денег и развития в стране, пока традиционная Россия живет мифами прошлого. Нет для нее другого пути, кроме пути передовых стран Атлантики. Если совсем «на пальцах», жестко и в лоб, то выбор-то невелик: либо рынок, либо лагерь. Все ж к этому сводится. Уже пора определиться, что выбрать. Помогите друг другу прийти к согласию! А сидеть и чесать затылок — то ли свободы хочется, то ли справедливого государства, то ли с народом не повезло — это и есть отсталость. Не может быть у каждого своего собственного пути к деньгам, он — один на всю нацию.
Сноски
1
Ортега-и-Гассет X. Восстание масс. — М.: АСТ, 2016. — С. 26.
(обратно)2
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1955. — Т. 3. — С. 246.
(обратно)3
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1950. — Т. 3. — С. 158.
(обратно)4
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1950. — Т. 3. — С. 158.
(обратно)5
Каутский К. Экономическое учение Карла Маркса. — М.: Госполитиздат, 1956. — С. 208.
(обратно)6
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1950. — Т. 1. — С. 198.
(обратно)7
«Независимая газета». Приложение. 5.05.2008.
(обратно)8
Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей // Восток. — 2004. —№9. — С. 19.
(обратно)9
Ленин В.И. Военная программа пролетарской революции // Полн. собр. соч. в 55 т. — М.: Политиздат, 1975. — Т. 43. — С. 152.
(обратно)10
Млечин Л.М. Ленин: Соблазнение России. — М.: СПб., 2008. — С. 149.
(обратно)11
Ленин В.И. Полн. собр. соч. — Т. 50. — С. 178.
(обратно)12
Ленин В.И. Полн. собр. соч. — Т. 45. — С. 190-191.
(обратно)13
Лукач Д. Ленин: исследовательский очерк о взаимосвязи его идей // Восток. — №9. — 2004. — С. 36.
(обратно)14
Ленин В.И. Полн. собр. соч. — Т. 53. — С. 142.
(обратно)15
Мао Цзэдун. О новой демократии. Цит. по: Библиотека политической литературы Союз-инфо, электрон. ресурс.
(обратно)16
The Economist. — 1974. — №8. — Р. 12.
(обратно)17
10 Surprises about Fidel Castro's Extravagant Life. Forbes, 26.11.16.
(обратно)18
Аргументы и факты. — 2013. — №6.
(обратно)19
Вольский В. Герой нашего времени. — Йорктаун, Вирджиния, личный веб-сайт.
(обратно)20
Вольский В. Герой нашего времени. — Йорктаун, Вирджиния, личный веб-сайт.
(обратно)21
С.Ю. Витте — министр финансов России в 1890-х, глава Кабинета министров в 1905-1906 гг.
(обратно)22
П.А. Столыпин — председатель Совета министров России и министр внутренних дел в 1906-1911 гг.
(обратно)23
Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. — СПб.: Алетейя, 2016. — С. 48, 266.
(обратно)24
Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. — СПб.: Алетейя, 2016. — С. 315.
(обратно)25
Ильин С.В. Витте. — М.: Молодая гвардия, 2006. — С. 147.
(обратно)26
Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. — СПб.: Алетейя, 2016. — С. 310.
(обратно)27
Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. — СПб.: Алетейя, 2016. — С. 311.
(обратно)28
К столетию убийства Столыпина: выстрелы в будущее // Русская служба ВВС. 16.09.2011.
(обратно)29
Русская служба ВВС. 16.09.2011.
(обратно)30
Отчет о земской экономической помощи населению Херсонской губернии в 1912 году // Цит. по: Давыдов М.А. Двадцать лет до великой войны: Российская модернизация Витте — Столыпина. — М., 2016. — С. 984.
(обратно)31
Давыдов М.А. Указ. соч. — С. 814.
(обратно)32
Сидоровнин Г. П.А. Столыпин. Жизнь за Отечество. Жизнеописание. 1862-1911. — М., 2014. — С. 786.
(обратно)33
Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. — Главы 3, 5.
(обратно)34
Ильин С.В. Витте. — М.: Молодая гвардия, 2006. — С. 116.
(обратно)35
Нетребский В. Как поссорились Сергей Юльевич и Петр Аркадьевич // Юг. — 2002. — 09. — 12.
(обратно)36
Шаляпин Ф.И. Маска и душа. — М.: АСТ, 2013. — С. 36.
(обратно)37
Империя титанов // Умное производство. — 2017. — Март. — Вып. 37.
(обратно)38
Там же.
(обратно)39
Империя титанов // Умное производство. — 2017. — Март. — Вып. 37.
(обратно)40
Усков Н. Неизвестная Россия: История, которая вас удивит. — М.: Эксмо, 2014.
(обратно)41
Усков Н. Указ. соч. — С. 233.
(обратно)42
Там же. С. 196.
(обратно)43
Тимофеева А.А. История предпринимательства в России. — М., 2011. — С. 223.
(обратно)44
Цветаева М. Отец и его музей // Litres. — 9.05.2017. — C. 68.
(обратно)45
Там же. С. 72.
(обратно)46
Цветаева М. Указ. соч. — С. 76.
(обратно)47
Цит. по телепередаче «Прилепин в гостях у Познера».
(обратно)48
Там же.
(обратно)49
Маркс К. Манифест коммунистической партии. — М.: Политиздат, 1970. — С. 2.
(обратно)50
Руднева А.О. Становление энергосырьевой ориентации российского экспорта // Вестник университета. — 2016. — №3.
(обратно)51
Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны. — СПб.: Алетейя, 2016. — С. 227.
(обратно)52
Островитянов К. и др. Политическая экономия. — М., 1954. — С. 244.
(обратно)53
L. Leamer. The Kennedy Men: 1901-1963, Harper Collins, 2001, p. 86.
(обратно)54
R.L. Moran, Consuming Relief: Food Stamps and the New Welfare of the New Deal, Journal of American History, March 2011, Vol. 97 Issue 4, p. 994.
(обратно)55
Смирнов А.В. Ф.Д. Рузвельт: «Новый курс» и борьба с Великой депрессией // Финансы. — 2007. — №4.
(обратно)56
The Roosevelt Week. Time, New York, 11.07.1932.
(обратно)57
Рэнд А. и др. Капитализм: Незнакомый идеал. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — С. 237.
(обратно)58
Рэнд А. и др. Капитализм: Незнакомый идеал. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — С. 241.
(обратно)59
The New York Times, December 31, 1933.
(обратно)60
The New York Times, December 31, 1933.
(обратно)61
The New York Times, December 31, 1933.
(обратно)62
P. Samuelson. Lord Keynes and General Theory. Econometriсa, 1946, № 3, p. 190.
(обратно)63
Котова Е. Кодекс бесчестия. Неженский роман. — М.: Вече, 2015.
(обратно)64
Рэнд А. и др. Капитализм: Незнакомый идеал. — М.: Альпина Паблишер, 2011 — С. 424.
(обратно)65
Рэнд А. и др. Капитализм: Незнакомый идеал. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — С. 264.
(обратно)66
Там же. С. 267.
(обратно)67
Коммюнике конференции руководителей трех союзных держав — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Ялта, 11 апреля 1945 г.
(обратно)68
L. Erhard. Wohlstand durch Wettbewerb, NY, 1958, p. 11.
(обратно)69
Ludwig Erhard. Wohlstadt für Alle. Düsselldorf, 1957, S. 27-28.
(обратно)70
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft. Sammelband der Gutachten von 1948 bis 1972 / Hrsg. vom Bundesministerium für Wirtschaft. Göttingen, 1973. S. 16.
(обратно)71
Там же. S. 1.
(обратно)72
L. Erhard. Wohlstandt für Alle. Düsseldorf, 1957, S.23; 34.
(обратно)73
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.03.17.
(обратно)74
L. Erhard. Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt. Freiburg, 1953, S.154.
(обратно)75
K. Handschuh. Gustav Stolper — Lieberale Kämpfer und brillanter Schreiber.Wirtschaftswoche, 29.04.12.
(обратно)76
Гайдар Е. Истоки радикализма. Предисловие к русскому изданию книги М. Фридмана «Капитализм и свобода». — М.: Эксмо, 2012.
(обратно)77
M. Friedman. Why Government is a Problem. Hoover Institution Press, Stanford, 1993, p. 3.
(обратно)78
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 143-144.
(обратно)79
Там же. С. 146.
(обратно)80
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 37.
(обратно)81
Там же. С. 112.
(обратно)82
Там же. С. 146.
(обратно)83
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 147.
(обратно)84
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 214.
(обратно)85
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 388.
(обратно)86
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007. — С. 69-70. (Здесь — в переводе автора.)
(обратно)87
Фридман М., Фридман Р. Свобода выбирать: наша позиция. — М.: Новое издательство, 2007.
(обратно)88
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер: От бакалейной лавки до палаты лордов. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 136.
(обратно)89
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 91.
(обратно)90
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 129.
(обратно)91
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 118.
(обратно)92
Wapshott, Nicholas. Ronald Reagan and Margaret Thatcher: A Political Marriage. — Sentinel, 2007, p. 203.
(обратно)93
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 101.
(обратно)94
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 184.
(обратно)95
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 244.
(обратно)96
C. Ogden. Maggie: An Intimate Portait of a Woman in Power, p. 387.
(обратно)97
C. Ogden. Maggie: An Intimate Portrait of a Woman in Power. Simon & Schuster, London, 1990, p. 5.
(обратно)98
C. Ogden. Maggie: An Intimate Portrait of a Woman in Power, p. 11.
(обратно)99
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1950. — Т. 1. — С. 726.
(обратно)100
Там же. С. 727.
(обратно)101
Там же.
(обратно)102
Там же. С. 729.
(обратно)103
Маркс К. Капитал. — М.: Госполитиздат, 1950. — Т. 1.
(обратно)104
Русская служба ВВС. 16.09.2011.
(обратно)105
Фридман М. Капитализм и свобода. — М.: Новое издательство, 2006. — С. 112.
(обратно)106
G. Murdal. The Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations. Pantheon, New York, 1968, p. 57.
(обратно)107
Тьерио Ж.-Л. Маргарет Тэтчер. — С. 347.
(обратно)108
D. Asemoglu, J. Robinson. Why Nations Fail, London, 2012, p. 487.
(обратно)
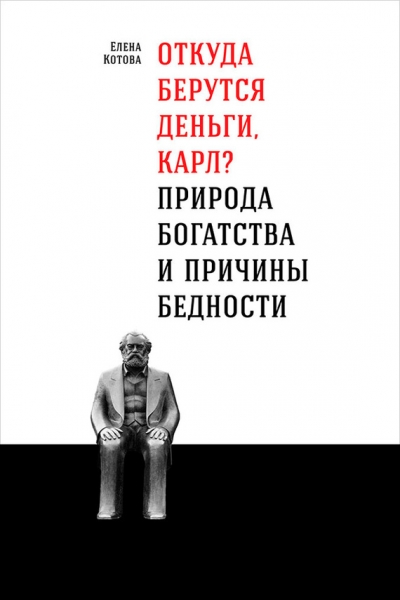
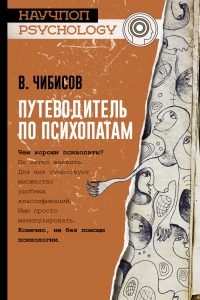








Комментарии к книге «Откуда берутся деньги, Карл?», Елена Викторовна Котова
Всего 0 комментариев