Джон Сибрук. Nobrow® Культура маркетинга. Маркетинг культуры
Посвящается Лизе
Старые различия между высокой культурой аристократии и коммерческой культурой масс были уничтожены, и на их месте возникла иерархия «модности». Конечно же, ноубрау не является культурой, совершенно лишенной иерархии, но в нем коммерческая культура – потенциальный источник статуса, а не объект неприятия элиты.
Джон Сибрук
«Книга, автор которой поставил перед собой задачу обнажить нерв современной культуры. Теперь вы знаете всю правду, какой бы неприглядной она ни была».
Financial Times
«Тезисы Сибрука, равно как его удивительно точные формулировки – пожалуй лучший и, несомненно, самый убедительный язык, который только и можно использовать для описания влияния маркетинга на современную культуру».
Time
1. Место в Шуме
Я вошел в вагон метро на Франклин-стрит, и двери с шумом захлопнулись за мной. Часы показывали одиннадцать утра, и вагон был наполовину пуст. Я вытянул ноги в проход и начал читать «Нью-Йорк пост» по своей обычной формуле: одна остановка на колонку сплетен, две – на новости СМИ и четыре – на спорт, хотя в этот день я позволил себе целых пять, чтобы прочесть превью баскетбольного матча между «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс». На голове у меня поверх нейлоновой кепки тюремного стиля были дорогие черные наушники CD-плеера – эту моду я перенял у парней из рэп-клипов.
emp1
В плеере играл Бигги Смоллз, альбом Ready to Die:
У меня неслабый поэтический дар Я подарю вам свой член Tвоим почкам капут Вот и мы, вот и мы Но я тебе не Домино У меня есть моя музыка Она сдернет с тебя трусы Tак Угадай Что у меня за размер В джинсах Карл Кани Tринадцать, знаешь, что это?Оторвавшись от газеты, я посмотрел на других пассажиров. Люди в основном ехали из Бруклина. У некоторых тоже играл в наушниках рэп. Внешняя урбанистическая пустота при внутреннем беспокойстве и экстремизме музыки. Я испытал то же самое странное чувство отрешенности от всего, которое ощущаешь, гуляя по вычищенным улицам Нью-Йорка времен мэра Джулиани. На первый взгляд все просто замечательно: великое финансовое процветание меньшинства, деньги повсюду, потребительский рай в магазинах. Но за этим фасадом существует мир тех несчастных, которых полицейские тыкают носом в грязный пол, надевая на них наручники, – жизнь, которую люди вроде меня видели только в сериале «Копы». Рэп, а в особенности гангста-рэп, соединил в себе идеологию наживы и расизм: фальшивую демонстрацию процветания и счастья на Манхэттене и подлинные социальные проблемы обычных людей. По крайней мере, в восьмидесятые годы на улицах было много бездомных, словно напоминающих об ужасающей социальной несправедливости в обществе, но теперь большую часть их тоже «вычистили».
Возвращаясь к газете, я позволяю гангста-рэпу проникнуть в меня, белого парня, и говорю: «Мужик, ты самый крутой, и ни один из этих людей, здесь, в этом гребаном вагоне, не сможет тебя поиметь, а если все же кто-то рискнет, то я всех уделаю. Вы хоть знаете, мать вашу, кто я такой?».
* * *
Выйдя из метро на Тайм-сквер, я сунул плеер в карман кожаной куртки, придерживая ее полу рукой, чтобы диск не «скакал» при ходьбе. Снега на тротуаре не было, только тонкий, словно мел, налет инея, который всегда бывает в январе, – на нем скользят подошвы. Воздух казался размытым из-за странного желтого сияния Тайм-сквер при дневном свете – смеси солнца и рекламных огней, настоящего и искусственного. Это и был цвет Шума. Шум (Buzz) – коллективный поток сознания, «шумящий сумбур» Уильяма Джеймса, объективированная, бесформенная субстанция, в которой смешаны политика и сплетни, искусство и порнография, добродетель и деньги, слава героев и известность убийц. На Тайм-сквер можно почувствовать, как Шум проникает в твое сознание. И он меня успокаивал. Я иногда останавливался здесь по дороге с работы или на работу, позволяя желтому сиянию проникнуть в мой мозг. В такие моменты внешний мир и мир моего сознания становились единым целым.
Двигаясь по тротуару, я заметил, что все идущие навстречу непременно бросают взгляд на большой телеэкран Panasonic Astrovision на углу Тайм-сквер у меня за спиной. Я обернулся. На экране я увидел президента Клинтона – подняв руку и задерживая дыхание, он торжественно клялся на Конституции Соединенных Штатов Америки. Это был день его инаугурации. Черт, я совсем забыл, что сегодня такой важный день для страны. Укрывшись от холодного ветра за телефонными будками на углу Бродвея и Сорок третьей улицы, я смотрел церемонию, читая слова клятвы президента по субтитрам внизу экрана.
Прямо под Клинтоном электронное табло индекса Доу-Джонса сообщало хорошие новости о ситуации в экономике. Над головой президента виднелась десятиметровая бутылка пива «Будвайзер», а еще выше – гигантская тарелка макарон. Хорошее сочетание символов: деньги – внизу, в самом богатом слое почвы, дающем пищу культуре, государственная политика, чья задача состоит не в том, чтобы быть лидером, а в том, чтобы развлекать и отвлекать, – в середине, а на самой вершине – продукт. Клинтон, похоже, вошел в эту систему абсолютно безболезненно. Здесь, на Тайм-сквер, в хаотичном слиянии знаков и брендов – кока-кола, Дисней, MTV, «Звездные войны», Кельвин Клайн, – находящихся так близко друг к другу, словно это Лас-Вегас, наш лидер чувствовал себя очень уютно. Практически все отвлекались от дел, которые привели их на Тайм-сквер, тут же останавливались и глядели не отрываясь на огромное изображение только что переизбранного на второй срок президента.
Завершив обряд, Клинтон подошел к трибуне, чтобы произнести инаугурационную речь. Я остался стоять на том же месте рядом с черным мужчиной в куртке «Оукленд Рэйдерс». Я читал субтитры на экране, а в наушниках гремел похотливый убийственный рэп в исполнении Би Ай Джи, и в мозгу у меня возникла, накладываясь на изображение президента, картинка из рэп-видео. Тем временем президент продолжал взывать к чувству ответственности граждан:
«Каждый из нас должен взять на себя личную ответственность – не только за себя и своих близких, но и за соседей, за всю страну…»
Насрать на прошлое, Мы сейчас В «500 SL», «Э», и «Д» и джинжер эль, Карманы распухают До краев, Полные Бенджаминов.Хоть я и пытался сосредоточиться на смысле слов президента, я не мог, как обычно, не пытаться одновременно разгадать смысл рэп-песни. «500 SL» – это, очевидно, «Мерседес 500 SL», а Бенджамины – Бенджамины Франклины, то есть стодолларовые купюры. «Э» и «Д»… Гм-м… А, понятно – Эрнст и Джулио Галло.
* * *
«Но не будем забывать: величайшие успехи, которых мы достигли, и величайшие успехи, которых мы еще должны достичь, все они заключаются в человеческой душе. В конце концов, все богатство мира и тысячи армий не смогут противостоять силе и величию человеческого духа».
* * *
Пиарщики Рональда Рейгана умело манипулировали его имиджем, но, думая о нем сейчас, я нахожу, что он был старомоден. Моральный авторитет, основанный на личных убеждениях, был важным качеством Рейгана. Но президентство Клинтона показало, что можно руководить страной и без морального авторитета, если ты достаточно хитер. Клинтон придавал опросам общественного мнения такое значение, как ни один из предыдущих хозяев Белого дома. Эти опросы напоминали скорее исследования рынка. Над тем же проектом, что и в Белом доме, работали в офисах медиа-магнатов на Тайм-сквер, и этот проект присутствовал во всех сферах культуры. Это была попытка сблизить потребление и производство: выяснить, что нужно публике, и дать ей это. Опросы, фокус-группы и другие формы маркетинговых исследований заменили старую систему ценностей, основанную на интуиции, и за нее отвечали конкретные люди. Теперь все свелось к цифрам: рейтинги присваивались даже культуре, которую до этого никто не пытался ни измерить, ни выразить в цифрах. Клинтон был идеальным менеджером такого общества.
* * *
Я свернул на Седьмую авеню. Тайм-сквер менялся. С него исчезали секс-шопы по той же причине, что и артхаусные кинотеатры с Верхнего Вест-сайда: граница между искусством и порнографией стерлась. Исчезли бары, в которых сидели проститутки и сутенеры, исчезли залы видеоигр, где я провел много часов, играя в Missile Command в 1983-м. Самой этой игры, целью которой было попытаться спасти мир, тоже не стало. В играх типа Doom или Quake максимум, на что можно было надеяться, так это на спасение самого себя. На месте залов видеоигр теперь были спортивные магазины, магазины Gap, кофейни Starbucks и мегастор Virgin, продававшие товары под брендом «Америка», который скоро превратится в бренд «Мир». Новый Тайм-сквер многие хвалили, говоря, что теперь он намного лучше прежнего (газета «Нью-Йорк таймс", лидер общественного мнения по этой теме, владела большим куском Тайм-сквер). Но все, что происходило до сих пор, было разрушением неповторимой местной культуры и заменой ее усредненной культурой маркетинга, и мне новый Тайм-сквер не казался лучше. Для меня это была огромная катастрофа.
* * *
Пересекая Сорок пятую улицу, я прошел мимо кафе All Star и зашел в мегастор Virgin. Спонтанный уличный колорит удивительно органично вписался в продуманный интерьер музыкального магазина. Покупатели плавно двигались, кайфуя в визуальной и звуковой какофонии, не обращая внимания на виртуальный мир снаружи. Стоя на эскалаторе, они поглядывали друг на друга, медленно погружаясь в тепловатую ванну поп-культуры или выходя из нее. Небольшие мониторы и два огромных экрана над головой показывали видеоклипы. Все эти мелькания и перемещения на экранах, казалось, имели неотразимое воздействие на рецепторы мозга, который, после всех этих столетий эволюции, все еще не мог не реагировать на движение (может, он все еще охотится на мух? Следит, чтобы поблизости не было хищников?). Энди Уорхол сделал этот феномен основным принципом своей киноэстетики: «Если предмет движется, на него будут смотреть».
Прямо при входе в мегастор расположился огромный отдел поп-музыки под вывеской Rock/Soul, включавший в себя весь ее диапазон – от «Иглз» до Pere Ubu и Эл Грина, – плюс всевозможные проявления иронии, аллюзий, банальности и скуки между этими полюсами. Эта гигантская культурная копилка вызывала множество ассоциаций. Среди групп, чьи пластинки здесь продавались, были и такие, которые можно было считать поп-культурным эквивалентом меток на двери, показывающих, на сколько сантиметров ребенок вырос за год. Джексон Браун, Джеймс Тейлор, Нил Янг, звезды фолк– и кантри-рока семидесятых, многие из которых выходили на лейбле Asylum, основанном Дэвидом Геффеном, – все они излучали какое-то мирное, простое чувство и стали моей первой любовью в мире поп-музыки. Двенадцатилетним мрачным и депрессивным подростком я слушал их в своей комнате, выключив свет. Панк-рок спас меня от вредных испарений фолк-рока: Игги Поп, Патти Смит и SexPislols, а потом и Talking Heads, сделавшие панк мейнстримом. В то время я еще не понимал, что переход от «поддельного» калифорнийского саунда к «настоящему» британскому андеграундному панку был серьезной антитезой, которая тем или иным образом определила все последующее развитие поп-музыки. После TalkingHeads пришли группы вроде Duran Duran, The Cure и The Cars, которые превратили «подлинный» саунд панк-рока в фальшивую «новую волну», оттолкнув меня от поп-музыки, когда мне было лишь немного за двадцать. Позднее волосатые группы восьмидесятых – Van Halen, Guns n'Roses и возродившийся Aerosmith – также не способствовали моему интересу к поп-музыке. А потом появилась «Нирвана» – группа, изменившая все.
До нее мой культурный опыт совершал более или менее величавое движение вверх по иерархии вкуса от коммерческой культуры к элитарной. Но когда в тридцать один год я услышал «Нирвану», поток культуры, проходивший через меня, замедлился, остановился, а потом двинулся в совершенно другом направлении. После «Нирваны» я стал следить за поп-музыкой с такой энергией, с какой никогда не следил за ней даже подростком: тогда я больше думал о своей будущей взрослой жизни, чем о музыке. Поп-музыка помогла мне сохранить в себе подростка, став особым критерием для меня как для взрослого. Я заинтересовался хип-хопом, потом его поджанрами вроде гангста-рэпа, потом техно, и сейчас я слушал весь громадный пласт между техно и хип-хопом – эсид, транс, джангл, биг-бит, эмбиент, – и все это казалось мне будущим поп-музыки.
Ребенком я думал, что стать взрослым – это значит перестать слушать поп-музыку и перейти к классике или хотя бы интеллигентному джазу. Иерархия вкуса была лестницей, по которой ты двигался к своей взрослой идентичности. День, когда ты впервые надевал вечерний костюм и шел на первое представление «Аиды» по абонементу Метрополитен-Опера, был днем, когда ты переступал невидимый порог во взрослую жизнь. Но последние пять лет, слушая поп-музыку, я иногда испытывал такие возвышенные, чуть ли не мистические чувства, какие уже давно не вызывали во мне ни опера, ни симфоническая музыка, – словно музыка, смысл и время соединяются воедино, наполняя тебя «океаническим чувством», которое, как писал Фрейд, характеризует мощное эстетическое переживание.
Месяцем раньше я испытал «океаническое чувство» на концерте группы Chemical Brothers в клубе «Рокси», куда меня привел один из друзей. Chemical Brothers – это двое молодых музыкантов-программистов, вышедших из танцевальной культуры британского города Манчестера, инспирированной «экстази». Они начинали с сетов в заброшенных заводских цехах, оставшихся от индустриальной революции девятнадцатого века и превращенных в источники уличного стиля конца двадцатого, но сохранивших при этом мрачную инфернальную атмосферу.
Мы целый час мерзли на улице перед входом в «Рокси», в то время как бритоголовые парни в огромных куртках на меху ходили взад-вперед, бормоча: «Ктопродастбилет-ктопродаст-билет-ктопродастбилет». Как и на других концертах, мы оказались едва ли не самыми старшими в зале. Поход на концерт еще одной новой модной группы был едва ли не главным культурным удовольствием нашей взрослой жизни. Эти впечатляющие моменты экстатического единения с молодыми стояли особняком в предсказуемом меню респектабельной культуры – современные пьесы, выставки Ротко, опера, иногда хеппенинги в клубах Kitchen или Knitting Factory. После концерта мы вернемся домой к женам и детям и к нашему утонченному меню из высокой, средней и низкой культуры, к тому, к чему привыкли, но сейчас, в присутствии музыки, не вписывающейся ни в какие традиционные рамки, мы ощущали себя как никогда «живыми», элитарная культура никогда не вызывала в нас такого чувства.
Наконец мы попали внутрь и прошли на танцплощадку. Большинство стоявших там ребят были озабочены только тем, как правильно выбрать момент для принятия принесенных с собой веществ, чтобы пик наркотического кайфа совпал с пиком кайфа музыкального. После довольно долгого ожидания кто-то вышел на темную сцену, и толпа встрепенулась. Начал пульсировать зловещий ритм, словно выкачивая черную хлюпающую жидкость из компьютера и выплескивая ее на зрителей. Затем прозвучала семплированная фраза из песни Блэйка Бакстера, повторенная четыре раза: dabrothersgonnaworkitout («братьясэтимразберутся». – Прим. пер.). После каждых четырех ударов в микс включался новый компьютерный ритм, а в последней вещи появилась перегруженная гитара. Из-за того, что музыка была сделана на синтезаторах, она обладала геометрической регулярностью, позволяя интуитивно понять, куда направляются линии саунда и в какой момент они сольются. Это напоминало чтение сонета: ты ждешь определенную форму еще до появления содержания. Происходило звуковое слияние: все ритмические вариации и искажения, до этого, казалось, несовместимые друг с другом, готовы были вот-вот сойтись во взрыве соединенного звука.
Мой друг повернулся ко мне и прокричал: «Сейчас будет РЕАЛЬНО громко!..».
А потом что-то словно лопнуло, и на меня снизошло просветление в виде мощнейшего акустического удара в грудную клетку, отбросившего нас назад, как кегли в боулинге. Мелькающие прожекторы осветили волосы одного из музыкантов – блондина, склонившегося над инструментом, – поймав его в самый идеальный момент: в стремительном движении вверх из субкультуры клубов, наркотиков и компьютеров в мейнстрим музыкальной индустрии и канала MTV. Последний надеялся объединить все поджанры техно и хаус-музыки в один большой жанр «Электроника», подобно маркетинговой категории «Альтернативная музыка», которая появилась благодаря успеху «Нирваны». Уже через месяц Chemical Brothers будут вовсю крутить на MTV. В один из безумных моментов того вечера я обернулся и увидел, как позади меня в VFP-зоне приплясывала Джуди Макграт, президент MTV.
Затем последовала еще одна вспышка, предварив появление поп-иконы нового типа: артиста со своей информационной консолью, из которой хлещут звуки, стили, свет, идеи, нервная агония коры головного мозга, пытающегося поглотить всю цифровую информацию, которая в него вливается. Жара в клубе, сумасшествие толпы, воздействие косяка, только что выкуренного нами, – все это способствовало мощнейшему культурному переживанию, моменту «ноубрау» (nobrow) – не высокой (highbrow – дословно: высокобровый. – Прим. пер.) и не низкой (lowbrow – низкобровый. – Прим. пер.), и даже не средней (middlebrow) культуры, а культуры, существующей вообще вне старой иерархии вкуса. Этот момент был еще свеж в моей памяти, когда я спускался на эскалаторе на нижний уровень мегастора, осторожно погружаясь в ванну Шума по пути в отдел импортных дисков, где надеялся найти пластинку с легендарными концертами Chemical Brothers в лондонском клубе Heavenly Social.
На этом же уровне, справа от эскалатора, располагался отдел классической музыки. Спрятавшийся за толстыми стеклянными стенами от грубых звуков из соседнего отдела, где сальса, афро-галльские барабаны, регги и португальское фадо сливались в какофонию под названием world music, он был андеграундным бункером старой элитарной культуры, ее последним прибежищем здесь, на Тайм-сквер. Тут часто показывали неплохое видео, обычно в нем присутствовал Джеймс Левин за дирижерским пультом или Владимир Горовиц за фортепиано. За этими толстыми стеклянными стенами ощущалась академическая стерильность, на которую обрекли классическую музыку современные композиторы, решив, что популярность и коммерческий успех – это компромисс. Все их самые оригинальные идеи – электронные и атональные вариации, резкие изменения мелодии – давно уже нашли поп-культурное воплощение в отделах джаза и техно. В то же время индустрия классической музыки практически разрушила себя сама, продолжая из года в год выпускать записи лучших оркестров мира, исполняющих один и тот же стандартный набор произведений, несмотря на то что разница в исполнении может быть интересна очень немногим, и еще меньше ценителей смогут эту разницу обнаружить. В результате потенциально интересный жанр оказался в тюрьме стеклянных стен. Отдел классической музыки был практически пуст; как я недавно узнал, этим можно было воспользоваться и платить в нем за диски из других отделов, когда к кассам наверху стоят большие очереди.
Я не нашел того, что искал в отделе импортных дисков, зато обнаружил несколько других альбомов, которые хотел купить, – пластинку джангл-диджея Эл Ти Джей Букема и сборник треков-гибридов рока и техно Big Beat Manifesto. (Характерный для супермаркета способ сбыта: усовершенствование товара за счет более широкого набора его характеристик и их неожиданного соединения.) Кроме того, вернувшись наверх, я нашел диск группы из Эссекса Underworld под названием Dubnoasswithmyheadman, который мне очень хвалили. Через двадцать минут я снова был на Тайм-сквер, держа в руках красный пластиковый пакет с дисками на сумму $59,49. На Сорок пятой улице я остановился, распечатал диск Underworld, открыл пластиковую коробку, извлек из нее драгоценную полиуретановую конфетку и вставил в плеер.
* * *
Клинтон уже закончил свое обращение к гражданам, и люди на Тайм-сквер перенесли свое внимание на другие объекты. Я постоял еще некоторое время в желтом сиянии, дожидаясь, пока техно в наушниках вернет моему сознанию порядок, нарушенный гангста-рэпом. Строчка «Небоскреб, я люблю тебя» отложилась у меня в мозгу подобно тому, как раньше, до того, как я купил плеер и сделал поп-музыку саундтреком своих перемещений по городу, в мозгу у меня оседали стихотворные строчки.
Я двинулся по Сорок четвертой улице мимо изящных завитков в неоклассическом стиле на стенах театра Беласко и через рифленые колонны старой элитарной культуры Нью-Йорка. У Шестой авеню я срезал угол, пройдя через отель «Ройялтон». Ресторан отеля, имевший название «44», был своего рода столовой издательского дома Condé Nast. Почти ежедневно на четырех скамьях, обитых зелено-желтым бархатом, можно было увидеть самых важных редакторов Condé Nast, культурных арбитров моего мира: Анну Винтур из Vogue, Грэйдона Картера из Vanity Fair, Тину Браун из «Нью-Йоркера» и, возможно, Арта Купера из GQ за четвертым столом или, может быть, кого-то из подающих надежды журналистов, занявших сегодня это почетное место. Этот ресторан часто сравнивали с Algonquin на Сорок четвертой улице, но там главенствовал интеллект, а в «44» – статус. Воздух в ресторане, казалось, становился более плотным от восхищенных взглядов, устремленных на людей, достигших своего статуса.
Было еще рано, и редакторы журналов не сидели пока на своих обычных местах, хотя в ресторане уже тусовались несколько журнальных типов в пиджаках поверх черных дорогих маек – этот стиль, соединявший в себе низкое и высокое, нравился Саю Ньюхаусу, владельцу Condé Nast.
На Сорок третьей я свернул налево и прошел полквартала до дома номер двадцать, в котором располагалась редакция журнала «Нью-Йоркер», моего работодателя. Три молодые женщины в черном, курившие во дворе, проскользнули передо мной во вращающуюся дверь.
«Нью-Йоркер» занимал три этажа, с шестнадцатого по восемнадцатый. Редакторы и журналисты работали на шестнадцатом и семнадцатом, а рекламный отдел и менеджмент располагались над ними. Хотя руководство можно было увидеть и на «журналистских» этажах – особенно с тех пор, как редактором стала Тина Браун, – традиционное разделение «между государством и церковью» – между редакционным и рекламным отделами – сохранялось в журнале. Жесткость этого разделения была особенно заметна во внешнем виде старого «Нью-Йоркера», где колонки текста обычно означали редакционный материал, а фотографии и прочие привлекающие внимание элементы – рекламу.
Единственный раз я был на этаже руководства, когда участвовал в одном мероприятии, проводившемся в элегантном конференц-зале, оборудовать который наша Тина убедила Сая Ньюхауса. В конференц-зале проходили в том числе и регулярные «круглые столы», которые Тина умело использовала для продвижения бренда журнала: на них журналисты «Нью-Йоркера» задавали вопросы знаменитостям вроде Элтона Джона или Лорен Хаттон, а в качестве аудитории выступали рекламодатели журнала. Самым скандально известным «круглым столом» стал один из последних с участием Дика Морриса, бывшего президентского советника, который всего за неделю до этого покинул пост ведущего стратега администрации Клинтона из-за своей связи с проституткой. Стены конференц-зала были украшены портретами известных людей и карикатурами из журнала. Портрет апатичной, все повидавшей Дороти Паркер, участницы старых «круглых столов», контрастировал с висящим напротив портретом игривого Дональда Трампа, типичного объекта интереса журнала эры Тины Браун.
Блестящие двери лифта соединились, он протяжно загудел, и я ощутил давление в подошвах. Я готовился войти в редакцию. За тридцать одну секунду (без остановок) подъема на шестнадцатый этаж нужно было выпустить из себя, отбросить на время культуру улицы, чтобы войти в мир, где слово «культура» все еще было синонимом слов «вежливость» и «образованность». Я стащил с головы наушники, снял кепку и солнечные очки и пригладил свои длинные волосы, глядя на отражение в блестящей металлической двери лифта.
* * *
В детстве я составил представление о том, что такое культура, благодаря журналу «Нью-Йоркер», который лежал на кофейном столике в доме моих родителей в Нью-Джерси вместе с другими среднеинтеллектуальными журналами, такими как Holiday, Life и Look. Представляемая «Нью-Йоркером» культура была элитарной, благопристойной и даже изящной. Культура была объектом устремлений, оставаясь при этом достаточно демократичной: ею мог обладать любой, даже если у него не было кофейного столика, чтобы выложить ее на всеобщее обозрение. Использование местоимения «мы» в редакционных статьях журнала предполагало существование некоего центра культуры, точки зрения, с которой любой мог увидеть все важное в культуре; а то, чего он видеть не мог, представлялось не слишком важным. Мы страстно интересовались так называемой элитарной, канонической, или высокой, культурой, состоявшей из традиционных видов искусства аристократии – живопись, музыка, театр, балет и литература. Мы также интересовались джазом, и мы научились ценить фильмы Полины Каэл и воспринимать телевидение лишь наполовину всерьез благодаря Майклу Арлену, но нас мало волновали рок-н-ролл, уличный стиль и молодежная культура. Чтобы сохранить авторитет этого «мы» – подразумевавшего, что иерархические различия и суждения «Нью-Йоркера» были не элитарными, а всеобщими, – журналу со временем пришлось отгородиться от еще большей части коммерческой культуры. Нам мог не нравиться рэп, но, когда он стал частью мейнстрима, мы не могли высказаться о нем со знанием дела и, в конце концов, просто остались в стороне.
* * *
В старом «Нью-Йоркере» каждое предложение было сентенцией, обращающей на соседние предложения ровно столько внимания, сколько требовали правила приличия. Факты подавались один за другим практически без украшательств. Кричащие заголовки, утонченный стиль письма, социологический жаргон, академическая теория – все, что было рассчитано на то, чтобы привлечь внимание или спровоцировать спор, скрупулезно удалялось из статей «Нью-Йоркера», публиковавшихся без фотоиллюстраций. Но еще более важно, что в тексте не допускалось ничего, что можно было назвать «новомодным». Подписчик «Нью-Йоркера» должен был быть уверен, что, открывая журнал, он испытает то же чувство, что и аристократ, входя в джентльменский клуб и оставляя грубый потребительский мир за дверями.
Более ста лет так функционировало в Америке понятие статуса. Ты зарабатывал деньги в том или ином коммерческом предприятии и потом, чтобы укрепить свое положение в обществе и отгородиться от других, вырабатывал в себе презрение к дешевым развлечениям и традиционным зрелищам, составлявшим массовую культуру. Старый «Нью-Йоркер» идеально соответствовал этой системе, что делало журнал столь привлекательным для рекламодателей. Подобно тому как «Кадиллак» рекламировал самый бесшумный автомобиль, а часы «Патек Филип» были лучшими среди недооцененной роскоши, «Нью-Йоркер» предлагал читателям изысканный, благопристойный и пассивно снобистский взгляд на события в мире, счастливо избавленный от этого орущего и визжащего карнавала за пределами его страниц.
В этом подходе присутствовала определенная доля фальши, потому что «Нью-Йоркер» был сам по себе коммерческим предприятием. Но многое в стандартах журнала вызывало восхищение. Основным источником морального авторитета «Нью-Йоркера» было противостояние тому, что вело к деградации культурной жизни – рекламе, бездумному следованию стандартам «статуса», вульгарным телезвездам – и недопущение в тексты, которые журнал предлагал читателям, всего того, что сейчас называется Шум. В этом журнал был одной из составляющих более высокого морального авторитета классических законодателей вкусов, действовавших по принципу Мэттью Арнольда: «Стремиться объективно пропагандировать все лучшее, что существует в мире».
В журнале источником морального авторитета были личные убеждения Уильяма Шона, бывшего редактором с 1951 по 1987 год. Его редакторская философия высказана в комментарии, опубликованном 22 апреля 1985 года, вскоре после того как Сай Ньюхаус купил «Нью-Йоркер» за 168 миллионов долларов у Питера Флайшманна, отец которого, Рауль, основал журнал вместе с Харольдом Россом в 1925 году. «Мы никогда не публиковали ничего с коммерческой целью, – писал Шон, – или для того, чтобы создать сенсацию, заработать скандальную репутацию, стать популярными или модными, успешными». В эти слова сейчас трудно поверить. Неужели так можно издавать журнал? Тем более очень «успешный»?
* * *
В 1987 году после пяти лет написания статей и рецензий для разных журналов я отправил образцы своей работы Роберту Готтлибу, сменившему Шона у руля «Нью-Йоркера». Через неделю Готтлиб позвонил и пригласил меня на встречу.
Сегодня та встреча в старом здании «Нью-Йоркера» на Сорок третьей улице кажется мне словно посланием из далекого времени, исчезнувшего подобно миру средневековой галантной любви. Кабинеты в старом здании были заполнены потертыми диванами, поцарапанными столами, стопками пылящихся рукописей и глубоко въевшейся грязью – этот стиль выражал отношение самого Шона к глянцу и гламуру. Некоторые из тех, кто в первый раз попадал сюда, ожидая увидеть нечто соответствующее их возвышенным ожиданиям – эдакое благополучие среднего класса, соответствующее культурной политике журнала, – были ошеломлены и потрясены убогим видом редакции. Но со мной этого не произошло, потому что я тоже придерживался позиции «мы слишком культурны, чтобы обращать на это внимание».
Готтлиб пригласил меня в кабинет, и мы начали беседовать. Скоро я понял, что, прочитав две присланные мной вырезки и письмо с предложением написать о современной «золотой лихорадке» в штате Невада, Готтлиб решил профинансировать мою поездку туда и заплатить мне за статью независимо от того, будет она опубликована или нет.
– Какого размера должна быть статья? – выдавил я из себя.
– На ваше усмотрение, – ответил Готтлиб. – Сами решите, сколько нужно, чтобы получилась удачная журррналистская работа.
В том, как Готтлиб произносил это слово – «журррналистская», – угадывалась некая nos algie de la boue, словно, произнося это слово, он совершал нечто совершенно неинтеллектуальное, но одновременно приятное. Позднее такая позиция приведет Готтлиба к его величайшему триумфу в качестве редактора – публикации длинной статьи Джанет Малколм о Джо Макгиннисе и Джефри Макдоналде «Журналист и убийца».
Ньюхаус выбрал Готтлиба – бывшего главного редактора издательства Alfred A. Knopf, а до этого вундеркинда из издательства Simon & Schuster в качестве замены Шону менее чем через два года после своего обещания, что Шон сможет оставаться редактором столько, сколько сам пожелает. Готтлиб, чьи культурные потребности были выше, чем у Шона, – он был известен как страстный поклонник балета – взял на себя практически невыполнимую роль: сохранить понятия Шона о том, какая культура должна присутствовать в «Нью-Йоркере», и в то же время попытаться сделать журнал более коммерческим, как того хотел Нью-хаус. Идя на компромисс, Готтлиб делал это достаточно демонстративно. В результате образовалась некая «неиерархическая иерархия»: Готтлиб применял интеллектуальные критерии к неинтеллектуальным удовольствиям, сохранив тем самым старую иерархию «высокого» и «низкого», но перевернув ее с ног на голову. Встав у руля «Нью-Йоркера», Готтлиб опубликовал интеллектуальные материалы на такие неинтеллектуальные темы, как голливудские дивы, Майами-Бич и съезд коллекционеров атрибутики с изображением шотландских терьеров.
Я предположил, что сорока тысяч слов будет достаточно, чтобы рассказать о новой «золотой лихорадке» во всей ее многогранности и подробно описать множество интересных и эксцентричных типов, которых я надеялся встретить в Неваде.
– Отлично, значит, это будет статья из двух частей, – бодро сказал Боб.
Я спросил, к какому сроку материал должен быть готов. В других журналах, для которых я писал, редакторы прежде всего думали о сроках.
– Вообще-то, у нас здесь нет жестких сроков, – сказал Готтлиб, слегка нахмурившись, как будто я допустил бестактность, хотя по его аффектированному поведению невозможно было определить, всерьез это или нет. – Работайте над статьей до тех пор, пока она не будет готова, – продолжал он. – А потом мы посмотрим, что у вас получилось.
Рискуя допустить еще большую бестактность, я спросил:
– А сколько вы мне заплатите?
– Много, – ответил Готтлиб. Он не назвал цифру, просто сказал «много» и добавил, что, если мне нужен аванс на поездку, я могу связаться с исполнительным редактором Шилой Макгро: – Ее фамилия пишется «Макграт», но произносится «Макгро».
Не сказав ничего конкретного по всем важным вопросам, Готтлиб проявил дотошность в этой детали, которая – как я потом узнал – была достаточно важной во внутренней жизни редакции, делившейся на тех, кто говорил «Макграт», и тех, кто говорил «Макгро».
На этом наша встреча закончилась. Я отправился в Неваду, старался изо всех сил, разочаровался, не успел к установленному мной самим сроку и наконец написал Готтлибу письмо, в котором объяснил ситуацию и попросил еще времени и денег. Боб сразу же позвонил и сказал, чтобы я связался с Шилой Макгро. («Помните? Пишется «Макграт», а произносится…») В конце концов, я написал статью на двадцать тысяч слов, и меньше чем через неделю Готтлиб позвонил и сказал, что она принята к публикации. Статья не имела никакой новостной «привязки» – «привязки» были частью вульгарной «журррналистики», – но в ней были описания природы, и у Готтлиба возникло «ощущение весны». Очень быстро статья была подготовлена к печати, всю информацию дотошно проверили, Боб и Нэнси Фрэнк лин сами отредактировали ее, и она вышла в апреле, уменьшившись до восемнадцати с чем-то тысяч слов. Все произошло так, как это должно было происходить в «Нью-Йоркере». Но со мной это произошло в первый и единственный раз.
* * *
Так получилось, что я появился в «Нью-Йоркере» как раз вовремя, чтобы увидеть, как старый журнал в буквальном смысле этого слова прекращает свое существование. Проблема была в том, что журнал не приносил прибыли. В пятидесятые, шестидесятые, а потом и семидесятые годы «Нью-Йоркер» зарабатывал очень много денег, а его праздничные номера были набиты рекламой, как фаршированные индейки. Коммерческий крах начался в конце семидесятых. К 1987 году, когда Готтлиб был назначен редактором, потери составляли 12 миллионов долларов в год. Вопрос, почему «Нью-Йоркер» перестал приносить прибыль, широко обсуждался как в самой редакции, так и за ее пределами. Редакторы и журналисты обвиняли рекламный отдел в том, что его сотрудникам не хватало ума объяснить рекламодателям, что в журнале понимается под «качеством». Но настоящая проблема состояла в том, что культура журналистов и культура рекламщиков, работавших на разных этажах, очень сильно отличались друг от друга. Это было еще одно следствие заката той ортодоксальной идеи культуры, которую представлял старый «Нью-Йоркер». Невозможно было примирить старые ценности журнала – некоммерческий подход, изощренность, хороший вкус и традиционность – с новыми: модой, «горячими новостями», сенсациями и «остротой». Двадцатилетние сотрудники рекламных агентств, покупавшие рекламные модули для крупных компаний, не читали «Нью-Йоркер». Для них его функции выполнял Vanity Fair.
Некоторые старые журналисты, сторонники Шона, решили, что журнал начал терять деньги потому, что попытался заработать, то есть в его финансовых бедах был виноват новый владелец, Ньюхаус, издатель таких сверхуспешных журналов, как Vogue, GQ и Vanity Fair. Конечно же, Ньюхаус привнес в журнал более агрессивный стиль бизнеса. Он за платил за «Нью-Йоркер» 168 миллионов в 1985 году (это был первый год, когда журнал стал убыточным) и, естественно, хотел получить от своей инвестиции прибыль. Некоторые думали, что финансовые проблемы журнала возникли оттого, что Ньюхаус за платил за него слишком высокую цену. Теорий, почему Ньюхаус так хотел купить журнал, было много. Одна из них заключалась в Еврипидовом предположении, что Ньюхаус таким образом хотел отомстить известному автору журнала Эй Джи Либлингу за критические стрелы в адрес его отца, Ньюхауcа-старшего, которого Либлинг назвал в своей известной колонке «скупщиком второсортных газет» и «человеком без политических идей с одними лишь экономическими убеждениями». (Вед Мета, один из журналистов времен Шона, написал в своей книге «Вспоминая “Нью-Йоркер” мистера Шона», что Ньхаус-старший однажды позвонил основателю журнала Раулю Флайшманну и спросил, за сколько он продал бы свой журнал, в ответ на что «Флайшманн выплюнул несколько ругательств и повесил трубку».) А может быть, Ньюхаус вовсе и не руководствовался подобными соображениями и лишь наивно сделал неоправданно высокую ставку на культурный потенциал «Нью-Йоркера».
В любом случае, стратегия Ньюхауса по развитию бренда, которую он доверил воплощать в жизнь Стиву Флорио, бывшему издателю GQ, а ныне президенту всей журнальной компании Ньюхауса, состояла в том, чтобы поднять тираж с 500 тысяч до 850 тысяч за счет рекламных рассылок, невысокой стоимости подписки и агрессивного пиара. Предполагалось, что, как только тираж увеличится, журнал повысит расценки для рекламодателей. Эта стратегия была успешной в GQ, но пока не работала в «Нью-Йоркере». Мелкие рекламодатели, которым были не по карману новые расценки, выставленные Флорио, начали один за другим отказываться от рекламы, тогда как крупные рекламодатели пока еще не поняли, как этот потерявший часть своей элитарности «Нью-Йоркер» сможет помочь им продавать «Кадиллаки» и часы «Патек Филип» лучше, чем GQ, Fortune или Vanity Fair.
Старый «Нью-Йоркер» использовал, кроме всего прочего, и свое местоположение в самом Нью-Йорке. По той же причине, по которой мои родители ездили в Нью-Йорк для шопинга в магазинах «Сакс» или «Блумингдейлс», они выписывали «Нью-Йоркер»: он словно был уникальным товаром, который нигде больше не продается. Но в восьмидесятые и девяностые годы многие из бывших когда-то эксклюзивно нью-йоркскими бренды стали продаваться по всей стране, и теперь магазин «Сакс» был в каждом крупном торговом центре. И по мере того как это происходило, значение местного колорита «Нью-Йоркера» для его старых рекламодателей утрачивалось. Очевидным выходом было сделать «Нью-Йоркер» общенациональным журналом – «качественным» журналом, в котором рекламировались бы те, кто хотел создать своим товарам «качественный» имидж. Но этого не произошло, по крайней мере пока. Выяснилось, что понимание «качества» журналистами и редакторами отличалось от его понимания компанией «Блуминг дейлс».
Трудности журнала оказались куда более серьезными, чем бизнес-стратегия: рост конкуренции на рынке СМИ и проблемы с молодыми читателями, которые больше не хотели читать длинные статьи о международном положении, пчелах и геологии, а если и читали, то поверхностно, тогда как старые поклонники были разочарованы попытками угодить двадцатипятилетним яппи, на которых ориентировались рекламодатели. На самом же деле изменилась сама культура. Теперь мало кого волновало «самое лучшее, что существует в мире», или, по крайней мере, мало кто доверял право выбрать это лучшее старым элитарным институциям вроде «Нью-Йоркера». Вместо того чтобы хвалить журнал за попытку «выбирать лучшее», продвинутые читатели обвиняли его в попытке установить «гегемонию». «Гегемония» – популярное сейчас слово в различных дискуссиях – означает, что власть естественным образом внедряется в культурные предпочтения. Вкус – это идеология того, кто этот вкус формирует, замаскированная под беспристрастное суждение.
Читатели говорили: «Это отличный журнал, но я больше его не покупаю, потому что мне стыдно, что он лежит у меня на столе, а я его не читаю». Таким образом, пытаясь выполнять свою привилегированную миссию по поиску всего самого лучшего и отфильтровыванию того, на что не стоит тратить время, «Нью-Йоркер», вместо того чтобы вызвать у читателей чувство благодарности или просветления, вызвал у них чувство стыда за то, что у них не было времени или достаточной серьезности, чтобы читать журнал.
Эта всеобъемлющая «серединная» культура, которую символизировали журналы на кофейном столике моих родителей, культура, в которой благодаря местоимению «мы» в редакционных статьях «Нью-Йоркера» читателям спокойнее спалось по ночам, исчезла, и на ее месте появился ландшафт, состоящий из ниш и категорий. Так как «Нью-Йоркер» не был ни журналом для мужчин, ни журналом о жилье, ни журналом о здоровье, ни литературным журналом, ни новостным, ни спортивным, а был всем этим сразу, ему было трудно вписаться в новый фрагментированный рынок. «Нью-Йоркер» был одним из последних великих журналов среднего интеллектуального уровня, но эту середину заслонил Шум, и вместе с ней ушел тот статус, который она могла гарантировать читателю.
К 1992 году Ньюхаус заменил Готтлиба Тиной Браун. Она была известным редактором и во многом способствовала успеху журнала Vanity Fair. Готтлиб ушел в своей ироничной манере, заявив в интервью «Таймс» по поводу выплаченной ему неустойки: «Я самая счастливая девушка во всей Америке».
* * *
Появление Тины Браун в «Нью-Йоркере» совпало по времени с более серьезными переменами в американском обществе – окончанием определенного периода в культурной жизни и началом нового. Старая аристократия высокой культуры умирала, и рождалась новая, более демократичная и одновременно более коммерческая элита – меритократия вкуса. Старые культурные арбитры, задача которых была в том, чтобы определить, что «хорошо» в смысле «имеет ценность», заменялись новыми, для которых «хорошо» означало «популярно». Эта серьезная перемена в нашей цивилизации ощущалась практически в любом музее, библиотеке, университете, издательстве, журнале, газете, телеканале страны. Я стал свидетелем всего этого в «Нью-Йоркере», и, хотя перемены в нем ожидались более радикальные, чем в других местах, он все же был частью мощного тектонического сдвига в понятии культуры как статуса – от аристократической иерархии «высокого» и «низкого» к масс-культурной модели ноубрау.
Более ста лет американская элита дистанцировалась от потребителей коммерческой или массовой культуры. Термины «высокое» и «низкое» были тем языком, с помощью которого культура переводилась в статус, – плоскостью, на которой вкусовые различия переходили в кастовые. Слова highbrowи lowbrow – это чисто американское изобретение, направленное на чисто американскую цель: трансформировать культуру в класс. Г.Л. Менкен описал эту систему в книге «Американский язык», а критик Ван Вик Брукс был одним из первых, кто применил эти термины к культурным понятиям и процессам. «Человеческая природа в Америке существует в двух непримиримых плоскостях, – написал он во “Взрослении Америки”. – В плоскости абсолютной интеллектуальности и плоскости абсолютной коммерции, соответствующих терминам highbrow и lowbrow».
В этих словах заключено нечто большее, чем просто попытка определить этимологию посредством псевдонауки френологии. Структура этих слов также подчеркивает серьезность, с которой американцы подходят к культурным различиям, превращая их в различия едва ли не биологические. В США иерархические разделения в культуре были единственным допустимым способом открыто говорить о классовой принадлежности. В менее эгалитарных странах, как, например, в Великобритании, родине Тины Браун, классовая социальная иерархия существовала еще до появления культурной иерархии, а следовательно, люди могли себе позволить смешивать коммерческую и элитарную культуры. Вспомните Диккенса и Теккерея, которые были успешными и с творческой, и с коммерческой точки зрения, или, если привести более свежие примеры, «Монти Пайтон», Тома Стоппарда и Лоренса Оливье. Но в США для достижения того, что в других странах было достигнуто благодаря социальной иерархии, потребовалась иерархия культурная. Любой нувориш мог купить себе особняк, но не каждый мог стать страстным поклонником Арнольда Шенберга или Джона Кейджа.
Разница между элитарной и коммерческой культурами должна была обеспечить «качественные» различия. Кто-то может сказать, что с художественной точки зрения «Реквием» Моцарта лучше, чем песня Lithium группы «Нирвана». Но эти художественные различия легко переходят в различия в социальном статусе: слушатели Моцарта более интеллектуальны, чем слушатели «Нирваны». Пока коммерческая культура считалась второсортной по отношению к элитарной (предполагалось, что телевидение – максимально упрощенная форма театра, что портреты Элвиса Пресли на бархате – вульгаризация искусства, что мебель фабричного производства изначально хуже, чем сделанная вручную, а готовая одежда – менее стильная, чем сшитая на заказ, и т. д.), потребители массовой культуры («массы», состоящие из необразованных, неотесанных хамов с бутылкой пива, которым могли противопоставить себя и богатые, и добропорядочные бедняки) естественным образом располагались ниже в социальной иерархии, чем потребители элитарной культуры. Эта система давала богатым дополнительный стимул поддерживать культуру. Привилегии в статусе, полученные за счет патронажа элитарной культуры, напоминали налоговые льготы для тех, кто занимается благотворительностью; эти привилегии были, возможно, не главной причиной для патронажа культуры, но однозначно хорошим стимулом.
Браун олицетворяла собой приход в «Нью-Йоркер» культуры ноубрау. Старые различия между высокой культурой аристократии и коммерческой культурой масс были уничтожены, и на их месте возникла иерархия «модности». Конечно же, ноубрау не является культурой, совершенно лишенной иерархии, но в нем коммерческая культура – потенциальный источник статуса, а не объект неприятия элиты.
Как можно было предположить, некоторые из журналистов старшего поколения поспешили обвинить Тину Браун в отсутствии интеллекта. Но ей все же удалось избежать ярлыков, которые на нее могли бы навесить недоброжелатели. Хотя вкусы Тины могли считаться «низкими» и по стандартам Шона, и тем более по стандартам Готтлиба, она принесла в журнал энергию, живость, остроумие и желание спорить, избавившись от сарказма и лицемерия и впервые напечатав слово cunt. Кроме того, она была более демократичной, чем это мог себе позволить любой американский редактор. Браун была настолько более демократичной, насколько любая система, ориентированная на рынок, демократичнее системы, ориентированной на «стандарты». При этом у Тины была своя «элитарность» – иерархия того, что модно. Благодаря своему британскому происхождению Браун могла находиться в самой середине культуры, не исповедуя при этом среднеинтеллектуальные ценности. Фатальная серьезность американских интеллектуалов средней руки – то, что Вирджиния Вулф метко назвала «смесью гениальности и сентиментальности в холодце из телячьих ножек», – не была свойственна Тине.
* * *
Под руководством Тины Браун «Нью-Йоркер» сильно изменился. Статьи стали намного короче, сроки сдачи материалов – жестче, а их публикация была приурочена к событиям, составлявшим Шум. Писать статьи на злободневные темы, стараться привлечь внимание публики, создавать скандалы, пытаться продать побольше экземпляров – все то, чего Шон пытался избежать любой ценой, – стало теперь нормой. Ценности, сформулированные Шоном и состоявшие в том, чтобы избегать низших форм коммерческой культуры, были заменены другими: идти на разумный компромисс с этой культурой и пытаться подходить к коммерческим темам «в стиле “Нью-Йоркера”». В старом «Нью-Йоркере» непредсказуемость ценилась, потому что не попадала ни в одну категорию. В новом «Нью-Йоркере» она считалась недопустимой по той же самой причине: она не встраивалась в систему маркетинговых категорий. С точки зрения маркетинга подобные темы были «поперек категорий».
Браун сделала «Нью-Йоркер» частью медиа-элиты девяностых. Все поп-культурные темы, запретные в старом журнале, – рок-звезды, MTV, Говард Стерн, «Звездные войны» – стали теперь частью редакционной политики. Статьи о старых культурных деятелях – директорах музеев, оперных менеджерах и коллекционерах живописи – чередовались со статьями о новых поп-фигурах: Доминик де Менил появлялся в журнале рядом с Кортни Лав. В то же время Браун решительно порвала с традицией публиковать изысканные статьи о вещах, не являющихся предметом массового интереса, и вытащила журнал – порой не без шума и криков, но чаще уверенно и целенаправленно – из зоны аристократической культуры туда, где неоновым светом сияли мода, деньги, власть, секс и знаменитости.
Учрежденная Шоном система отношений с авторами, при которой журналистам предоставлялась полная свобода, ограниченная лишь собственным вкусом Шона (ограничение более серьезное, чем могло показаться), была заменена подобием «студийной» голливудской системы, при которой журналисты тесно сотрудничали с редакторами. Послед ние были чем-то вроде продюсеров – посредников между творческим и коммерческим процессами. Журналисты были свободны от чьего-либо индивидуального вкуса, вернее, были подчинены вкусу Тины Браун, постоянно менявшемуся в зависимости от рыночной конъюнктуры. Обе системы имели свои преимущества и недостатки. Новая ориентация на статьи о том, что «модно», иногда раздражала, но в ней были и свои плюсы. Для некоторых авторов ограничения на размер статьи и требование максимальной конкретности и ясности вместо свободного плавания в теме до тех пор, пока что-то не привлечет внимание, помогали дисциплинировать свою мысль. Ситуация в «Нью-Йоркере» была чем-то похожа на ту, что существовала в прошлом в киноиндустрии и была описана Томасом Шатцем в книге «Гений системы». В ней он утверждает, что фильмы тридцатых и сороковых годов, когда студийные боссы полностью контролировали творческий процесс, были ничем не хуже фильмов более позднего периода творческой независимости. Шатц писал: «Уровень художественного качества всех этих фильмов являлся продуктом не индивидуального человеческого выражения, а результатом слияния институциональных сил. В каждом случае стиль автора сценария, режиссера, актера – или даже оператора, художника и художника по костюмам – смешивался с функциями студии, структурой ее менеджмента, ресурсами и талантами, повествовательными традициями и маркетинговой стратегией».
Кроме того, если Тина могла лучше «раскрутить» журнал – привлечь внимание большего числа людей к публикуемым в нем качественным материалам за счет более активного продвижения, то что в этом плохого? Требовались некоторые усилия, так устроен реальный мир. Старому «Нью-Йоркеру» не нужно было конкурировать со всеми другими журналами и телеканалами, которые появились сейчас. И почему бы культуре и маркетингу не сотрудничать более тесно? Было недостаточно дать читателям просто культуру, от журнала требовалось, чтобы он продвигал эту культуру, или, как заявила Браун в интервью «Нью-Йорк обсервер»: «Нужно продвигать качественную культуру любым способом».
Ключевой вопрос о том, были ли журналисты при Браун более независимы, чем при Шоне, далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, статьи, которые нравились Тине, гораздо больше зависели от рыночной конъюнктуры, и написание их предполагало целый ряд мелких уступок, которые как раз и занимают пространство между культурой и маркетингом. Если журналист писал о поп-звезде, дизайнере или спортсмене, он должен был воспользоваться их звездным статусом, чтобы статью опубликовали. Но если автор думал, что этого хватит – взять лишь их статус и ни в коей мере не пожертвовать своей творческой независимостью, – он, увы, глубоко заблуждался. Здесь всегда имела место сделка.
Но, с другой стороны, то, что Шон называл независимостью – разделение между культурой и маркетингом по типу разделения между церковью и государством, – тоже не было подлинной независимостью. Настоящая независимость подразумевала бы контроль за творческой и коммерческой составляющими. Отчасти из-за того, что Шон целомудренно избегал участия в бизнесе журнала, Питеру Флайшманну пришлось продать журнал Ньюхаусу в 1985 году, и он даже не посоветовался с Шоном. А позже, в 1987 году, Ньюхаус, несмотря на свое обещание сохранить за Шоном пост редактора, уволил его.
* * *
По причине британского происхождения Тины американские англофилы, которые контролируют наши культурные институции, могли бы даже поставить ее выше себя в культурной иерархии, если бы только она согласилась ее признать. Но Тина отказала им в этом. Вместо этого она весело отстегала старую гвардию, опубликовав статьи на «низкие» темы – о голливудской сутенерше, об О. Джей Симпсоне, о священниках-педерастах, об убийстве адвоката-гея проституткой-мужчиной в мотеле. Она публиковала статьи, которые, казалось бы, специально были рассчитаны на то, чтобы шокировать ее противников: беспричинное сквернословие, обнаженные тела (на каком-то этапе в отделе компьютерного набора принимались ставки на то, сколько раз в неделю в журнале появится обнаженный женский сосок), провокационные обложки, например, изображение целующихся черной женщины и мужчины-хасида во время расовых столкновений между евреями и неграми в Нью-Йорке в 1991 году или распятый на бланке налоговой декларации пасхальный заяц (но даже Браун отказалась использовать в рождественском номере рисунок, изображавший Санта-Клауса, который мочится на тротуаре).
Одним из главных достоинств Тины как редактора было то, что она видела американскую культурную иерархию такой, как она есть – вовсе не иерархией вкуса, а иерархией власти, использовавшей вкус, чтобы замаскировать свою подлинную сущность. Но это же было и ее фатальной ошибкой на посту редактора: она никогда не понимала и не принимала всерьез близкие отношения журнала со старой иерархией. Да, все это было действительно смешно – too funny really, как говорят британцы, – та доверчивость американской культурной элиты, смехотворные различия между поп-культурой и высокой культурой и серьезность, с которой эта элита защищала свою бесценную цивилизацию от атак снизу. Но то, что Тина и ее британские друзья за чашкой чая просто называли «нью-йоркеровской фальшивкой», имея в виду снобизм части старой гвардии, претендующей на защиту стандартов, тогда как на самом деле они защищали лишь собственный статус, было малосимпатично, но не фальшиво. Старая система разделения на высокое и низкое была единственной классовой системой, когда-либо существовавшей в Америке, и многие люди действительно принимали ее слишком всерьез.
Это стало особенно очевидно во время «дела Роузэнн», ставшего одним из ключевых моментов для Тины как редактора. Готовя «женский выпуск» – Тина ввела практику тематических выпусков, – она приняла рискованное решение пригласить Роузэнн Барр и провести встречу с редакторами и журналистами в своем офисе в Лос-Анджелесе, чтобы обсудить возможные темы спецвыпуска. Перед этим в журнале была опубликована большая статья Джона Лара о Роузэнн, и читатели, не видевшие ее шоу, могли судить о ее цивилизованности со слов Лара. «Я люблю слово fuck, – заявила она в интервью. – Это и глагол, и существительное, все вместе, и оно буквально наполнено чувством и страстью, понимаете, и негативной и позитивной. И считается, что женщины не должны его употреблять, поэтому я употребляю его так часто, как только могу».
Роль Роузэнн в подготовке спецвыпуска была чрезмерно раздута в «Нью-Йорк обсервер», который журналисты «Нью-Йоркера» заинтересованно читали, чтобы узнать последние новости о других отделах своей же редакции, и публика сделала вывод, что Роузэнн будет «редактировать» женский выпуск. Это привело в недоумение многих читателей, для которых соблюдение четкого различия между Роузэнн и «Нью-Йоркером» означало сохранение их собственного места в культурной иерархии. Эта новость также позволила «Нью-Йорк таймс» провернуть трюк в стиле старого «Нью-Йоркера» – Морин Дауд написала в своей желчной колонке: «Есть что-то неприятное в этих попытках превратить раблезианскую скандалистку в идеал феминизма».
Во время истории с Роузэнн уволилась журналистка Джамайка Кинкейд, заявив в интервью «Ньюс уик»: «Посадите меня в одну комнату с великой журналисткой, и я буду ползать перед ней на коленях. Посадите меня в одну комнату с Роузэнн, и меня вытошнит». Это спровоцировало Эллен Уиллис, «агента» старого «Нью-Йоркера», пошутить в комментарии для Village Voice: «Посадите меня в одну комнату с Джамайкой Кинкейд, ползающей на коленях перед великой журналисткой, и меня вытошнит». Иэн Фрэйзер прислал заявление об уходе по факсу из Монтаны, а потом дал интервью Морин Фрили из «Лондон обсервер», в котором было несколько великолепных перлов. «Она (Тина Браун) принесла в страну понятие “болтающие классы”. Когда я первый раз услышал это определение, то подумал: о, черт! Подождите-подождите, я не хочу принадлежать ни к какому болтающему классу. Я лучше буду чернорабочим». А вот еще одна фраза из того интервью: «Она сказала мне, что Роузэнн очень умна и оригинальна и что это нормально, если талантливый человек одновременно является и немножко монстром. И я возразил ей: “Знаете что, Тина? Я тоже немножко монстр. И я не собираюсь лизать задницу другим монстрам”».
* * *
Больше тридцати журналистов старого «Нью-Йоркера» раньше или позже покинули журнал при Тине. Имена, ставшие синонимами хорошего вкуса, остроумия и спокойной элегантности, были наспех накорябаны на картонных ящиках, в которые они складывали свои вещи, уходя из редакции. Некоторые уволились со скандалом, но большинство ушли печально и тихо, испытав жуткий страх оттого, что не попали в ближний круг внимания Тины.
Решение уйти, принятое Джорджем Троу, имело для меня самое большое значение. Он ко всему прочему был первым, кто описал коммерческую культуру, позже внедренную Тиной в журнал, в своем эссе «В контексте отсутствия контекста», опубликованном в «Нью-Йоркере» Уильямом Шоном еще в 1980 году. В колледже Джорджа Троу читали самые продвинутые люди, и, когда я приехал в Нью-Йорк, он был первым журналистом, с которым мне хотелось познакомиться. Однажды мне сказали, что он был на вечеринке в лофте, который я снимал к северу от улицы Хьюстон, но я так с ним тогда и не познакомился. Не познакомился я с ним и потом.
После эффектного обмена факсами с Браун – факсы ходили из рук в руки по редакции – Троу обвинил Тину в том, что она «лижет задницы звездам», и уволился. Ясно, что здесь на карту были действительно поставлены принципы. Редакция к тому времени разделилась на «новых» и «старых», и среди последних, в свою очередь, были люди Готтлиба и Шона, и от этого клубка убеждений, привязанностей, отношений и собственных интересов – целой внутренней культуры – невозможно было уйти.
На чьей стороне в этой культурной революции был я? Хотя я и писал для старого «Нью-Йоркера» при Готтлибе, но потом я принял предложение от Vanity Fair, редактором которого на тот момент была Тина. А познакомился с ней я несколькими годами раньше, когда она позвонила мне и сказала, что хочет, чтобы я писал для ее журнала, – она видела в журнале Manhattan, inc. одну из моих первых журнальных статей, о Полли Меллен, тогдашней законодательнице мод в Vogue. Тина среагировала на мою поп-культурную составляющую, и это меня насторожило. В моей мифологии Тина была коварной соблазнительницей из мира низкого интеллекта и чистого развлечения, которому слишком легко угодить и против которого выступал «серьезный журналист» во мне в полном соответствии с разделением на высокое и низкое.
Но на тот момент, когда Тина предложила мне годовой контракт с высокой в пятизначном выражении зарплатой, мои идеи не находили отклика у Готтлиба, и я был заинтригован. Зная, что Боб будет разочарован, я все же решил, что стоит попробовать себя в Vanity Fair, и принял предложение.
Но у меня не получилось. Каждый раз, когда Тина не соглашалась с моей идеей для статьи, я переходил на общение в письменной форме, принуждая ее к роли «босса», командующего мной, «художником». Кроме того, мне не нравился сам журнал. Иногда в нем печатались хорошие статьи, но было и много мусора. Если люди Тины объясняли это потребностью в разнообразии, то я объяснял это элементарным отсутствием стандартов.
Незадолго до окончания моего годового контракта я присутствовал на рождественской редакционной вечеринке, которая в тот год проходила в клубе «Скай» в небоскребе «Пан-Ам». Я как раз трудился над статьей, не получавшейся скорее по моей вине, чем по вине Тины. Но я был раздражен и зол из-за плохого взаимопонимания с Тиной. Увидев меня на вечеринке, она протянула мне левую руку, как будто для поцелуя, но я попытался ее пожать. Получилось неловко, так почему-то всегда получалось с Тиной.
Чувствуя, что все летит к чертям, я быстро напился. Мне стало на все наплевать, и, наткнувшись на одного из журналистов, я начал громко объяснять ему, что за дерьмовый журнал Vanity Fair. Я рассказал ему, что при редактировании моей последней статьи из нее убрали все самое интересное, упростив ее до уровня какого-то гипотетического читателя, которого я терпеть не мог. Этот журналист, который был старше меня, слушал потягивая виски и время от времени нетрезво кивал. Он когда-то подавал большие надежды, но растратил свой талант, занимаясь халтурой. Он уже был здорово пьян, и его приятное умное лицо, которое он обращал к миру, завоевывая доверие даже тех, кто не должен был ему доверять, раскололось, как лед, обнажив горечь. Когда я закончил свои жалобы, он сказал: «Да, я раньше чувствовал то же самое. Но я это преодолел. И ты тоже преодолеешь».
Эта рождественская встреча с призраком будущего оказалась для меня решающей: я уволился. Уж лучше, в конце концов, стать адвокатом, чем писать для Vanity Fair. Тем вечером, идя домой пешком по замерзшим улицам в надежде протрезветь, я решил, что снова буду писать внештатно для «Нью-Йоркера». Зарабатывать я буду, конечно, намного меньше, зато буду писать о серьезных вещах для журнала, где ценят качество, а не плавать в поп-культуре, как сейчас.
Я сказал родителям о своем решении на рождественском ужине, спровоцировав семейный скандал. Защищаясь, я выкрикивал отцу страстные лозунги о творческой свободе, а мать плакала на кухне. Скандал возник не из-за моего решения уволиться: отец понимал, что Vanity Fair был ниже в культурной иерархии, чем то, к чему должен был стремиться его сын-журналист. Спор возник из-за того, должен ли я сказать Тине о подлинной причине ухода, о том что журнал – дерьмо. «Уйди от них улыбаясь», – сказал отец. И эти его слова привели меня тогда в ярость.
Я ушел улыбаясь – в большей или меньшей степени – и через семь месяцев был этому рад. 30 июня 1992 года одна знакомая, с которой я когда-то пересекался, работая над статьей для Vanity Fair, позвонила мне и сказала, что якобы Тина Браун станет редактором «Нью-Йоркера» вместо Готтлиба. Я сказал, что этого не может быть. Вокруг Тины всегда ходило множество слухов, но все они так и оставались слухами. Слухи были чем-то вроде оппортунистской инфекции, процветавшей в окружении Тины. Она не могла быть назначена редактором «Нью-Йоркера» потому, что в системе «высокого» и «низкого», в которую я тогда еще верил, «Нью-Йоркер» был всем тем, чем Vanity Fair не был.
В тот вечер я впервые серьезно задумался о концепции Шума. Я почти ощущал его в воздухе, как перемену погоды. Мои родители услышали новость по радио, и отец тут же мне позвонил:
– Ну, что, получается, я дал тебе неплохой совет? – сказал он мне.
Один ноль в пользу отца.
* * *
Встав у руля «Нью-Йоркера», Тина встретилась по очереди со всеми авторами. Это был если и не медовый месяц, то, по крайней мере, месяц неформальных встреч с журналистами, столь любимыми президентом Клинтоном. Моя аудиенция была за планирована на конец месяца, и это было не слишком хорошим знаком. Я очень нервничал в тот день в лифте, поднимаясь на семнадцатый этаж. Одна из причин могущества Тины состояла в том, что ее внимание было трудно заслужить. Это был еще один ее дар как редактора, чем-то близкий к инстинкту. Она олицетворяла собой современного читателя, который постоянно отвлекается и которому быстро все наскучивает, – того читателя, за которого «Нью-Йоркеру» предстояло бороться. В ее присутствии ты чувствовал, что должен максимально эффективно использовать свое время. У меня это получалось не слишком удачно.
Я провел предыдущие шесть месяцев, работая над большой статьей по заказу Готтлиба, предварительно озаглавленной «Человек, который изобрел стеклоочиститель». В ней должно было быть много материала о патентном законодательстве, любопытные истории об эксцентричности изобретателей, о теории изобретения, а также кое-что интересное о Томасе Джефферсоне и истории патентов в Америке. Я подозревал, что ничто из этого не заинтересует Тину. (Так и оказалось. Ее вердикт по поводу статьи был таким: «Слишком много про прошлое, слишком мало про настоящее».) Но на встрече со мной Тина держалась дружелюбно, стараясь показать, что заинтересована во мне и что все осталось в прошлом. И она говорила правильные вещи насчет «Нью-Йоркера». Кто-то дал ей прочитать статью об Ахмете Эртегуне, написанную Джорджем Троу в 1978 году, и она цитировала ее в качестве образца того, что ей хотелось получить от журналистов, – она верно угадала мое восторженное отношение к этой статье. «Черт возьми! – восклицала она. – Никогда не знала, что в “Нью-Йоркере” было столько первоклассных журналистов! Марк Сингер! Уильям Финнеган! Сьюзан Орлеан!»
Я попытался предложить ей мою новую идею – статью о гигантском голубом тунце.
– О тунце? – переспросила Тина.
Гримаса отвращения появилась на ее лице. Но, выслушав некоторые подробности, она сказала, что я должен продолжать работать над статьей. Я знал, что идея статьи Тине не нравится, но продолжал над ней возиться и, в конце концов, закончил, но Тина статью не опубликовала. Этот эпизод объяснил мне важнейший принцип работы с Тиной: никогда не берись за статью, идея которой ей не нравится.
Во время нашей встречи Тина пила диетическую колу из банки, задумчиво покусывая соломинку, потом неожиданно посмотрела на меня. Такие моменты, когда она направляла на тебя всю свою энергию, поначалу пугали меня, но потом я полюбил их и даже нуждался в них время от времени. Благодаря Тине любой мог почувствовать себя поп-звездой. И дело было не в вечеринках и мелькании фотовспышек, и не в том, что люди в наушниках подходили к Тине, когда ты беседовал с ней, чтобы сообщить, что какая-то знаменитость, или могущественный рекламодатель, или более известный журналист, чем ты, обнаружен в одном из углов банкетного зала. Тебя наполнял энергией именно этот ее быстрый взгляд. В такие моменты я понимал, что, несмотря на возвышенные примеры других журналистов, я не брошу «Нью-Йоркер» из-за прихода в него Тины Браун.
«Нью-Йоркер» был единственным журналом, для которого я хотел писать, единственной работой, которая мне нравилась, единственной институцией, которой я доверял; и я не настолько витал в облаках, чтобы не понимать, что уход старых авторов создает новые возможности для более молодых вроде меня. Кроме того, если бы я ушел, то ради чего? Ради хорошего вкуса, стандартов, приличия? «Почитайте сегодняшний “Нью-Йоркер”, – написал Джозеф Эпстайн в журнале American Scholar о «Нью-Йоркере» Тины Браун. – Обратите внимание на его неприглаженный и порой корявый язык, на склонность к политическому скандалу и детскую наив ность попыток привлечь к себе внимание, и вы почувствуете, как вам не хватает того спокойного хорошего вкуса, который журнал культивировал десятилетиями». Это, с одной стороны, и были те самые принципы, которых я придерживался. И все же от тоски по спокойному хорошему вкусу веяло смертью.
* * *
Двери лифта раздвинулись на шестнадцатом этаже, и мое отражение в них разделилось точно пополам. Секретарь Си Эс Ледбеттер-третий был на своем обычном месте. Как всегда, у его стола лежала целая куча всякой всячины, собранная здесь по той простой причине, что Си Эс позволил всему этому здесь находиться. На вешалке висело платье для выпускного вечера чьей-то сестры. Рядом стоял бюст Уильяма Шекспира в шапке, которую кто-то притащил с парада в День святого Патрика. Тут же примостилась неумелая картина, нарисованная каким-то студентом и изображающая бомбу, готовую вот-вот упасть на платформу с сеном. Тем, кто помнил старый «Нью-Йоркер», стиль Си Эс Ледбеттера-третьего напоминал его грязные, обшарпанные коридоры; здесь еще сохранился подход «мы слишком культурны, чтобы обращать на это внимание». Диваны позади стола Си Эс также были воплощением старого «Нью-Йоркера».
Си Эс находился в зоне слышимости криков и воплей Мори Перл, исключительно энергичной пиарщицы, которую Тина привела с собой из Vanity Fair. Время от времени Си Эс вздрагивал, услышав разносившийся по тихому коридору вопль Перл: «Скажите ей, что я перезвоню!», когда она со своими помощниками стремглав бросалась в очередной водоворот Шума, умело подбрасывая в него пикантные новости «Нью-Йоркера», да, «Нью-Йоркера», а что тут такого?
При Шоне «Нью-Йоркер» делал все возможное, чтобы его не смешивали с другими журналами, избегая тем, о которых те писали. Теперь каждую неделю пиар-отдел вырезал целую кучу статей из других журналов, где упоминался «Нью-Йоркер», и распространял их по офису.
Дальше по коридору, где находились кабинеты журналистов, все было тихо. Возможно, люди работали, но без Шума. Большинство журналистов редко появлялись в своих офисах. Хорошо было иметь свой кабинет, чтобы сидеть там и писать. Но иметь кабинет и не пользоваться им было еще лучше. Я лишь изредка пользовался своим в самом конце коридора, который называли «ущельем мертвеца», недалеко от кабинета Джо Митчелла.
Си Эс что-то писал.
– Работаю над мемуарами, – сказал он, заторможенно кивая мне.
По дороге к своему кабинету я прошел библиотеку, которая в своей неприкрашенной официальности сохранила дух старого «Нью-Йоркера». Библиотека была настоящим бастионом редакции. В ней хранились подшивки журнала за все годы, все книги авторов журнала и святая святых – большие черные тома с вырезками, имена авторов которых были выведены на переплете белой краской. Три или четыре тома со статьями самых плодовитых авторов – Уайта, Тернера, Перлмана, Росса и Макфи. Один только текст, никаких украшательств, всего лишь работа – устрашающее, если не ужасающее достижение.
В библиотеке, кстати, тоже имели место несколько примечательных моментов в стиле ноубрау. Однажды я искал там одну статью и неожиданно обнаружил Шэрон Стоун, разговаривающую по телефону с Ричардом Аведоном, чья студия находилась на Верхнем Ист-сайде. Аведон был первым штатным фотографом «Нью-Йоркера», нанятым Тиной. Его приняли на работу на следующий день после смерти Уильяма Шона, и он занял одно из первых мест в свите придворных художников, собранных вокруг себя нашей «мадам Помпадур».
Судя по всему, Аведон оскорбил актрису, попросив ее для съемки снять с себя слишком много одежды, и Стоун опрометчиво искала утешения на груди коварной Тины. В библиотеке был телефон, и Си Эс предложил ей воспользоваться им.
В другой раз в редакцию пришел Стивен Спилберг. Я как раз был на семнадцатом этаже, где работала Тина и другие редакторы («этаж смерти», по выражению одного из них). Неожиданно я увидел идущих мне навстречу Спилберга и Тину, особенно привлекательную в одном из своих костюмов кремового цвета. Джордж Троу заметил по поводу стиля работы Тины: «Великолепная девушка, но в неподходящем наряде». К этому я еще вернусь, но в тот день, идя по коридору от своего офиса, Тина была в подходящем наряде. Она пыталась разговорить Спилберга: «Что вы хотели бы увидеть в редакции?». И Спилберг, оказавшийся преданным сторонником старого среднеинтеллектуального «Нью-Йоркера», признался, что хотел бы осмотреть знаменитую библиотеку. «Библиотеку! – воскликнула Тина. – Великолепно! – И тут же, повернувшись к одному из своих помощников, шепотом спросила: – А где у нас здесь библиотека?»
* * *
Я поздоровался с несколькими знакомыми, которых встретил в коридоре, рефлекторно принимая преувеличенно вежливый тон, которым сотрудники журнала общались друг с другом. Это была некая вежливость «старого мира», она, казалось, исходила из глубин той культуры, которую представлял журнал. Эта вежливость применялась не только к авторам, которых воспринимали как особый класс людей, но и к редакторам, корректорам и производственному персоналу – ко всем, кто участвовал в изготовлении журнала. Тина, которая в бытность свою редактором Vanity Fair могла запросто сказать про кого-то из подчиненных нижнего звена: «Что это за убожество? Быстро убрать его с моих глаз», не пыталась адаптировать свои манеры к реалиям «Нью-Йоркера». Не пыталась она и узнать побольше о людях, участвующих в производстве журнала. Элеонора Гульд Пакард, легендарный корректор, проработавшая в журнале пятьдесят пять лет (на настоящий момент), сказала, что за шесть лет работы Тины в журнале она не обменялась с ней ни единым словом.
Сидя в своем кабинете, я достал из портфеля несколько блокнотов и начал переносить свои заметки в компьютер. Перед этим я провел уикенд в Техасе с пятнадцатилетним музыкантом Беном Квеллером, который подавал надежды стать новым рок-н-ролльным вундеркиндом, и его родителями – доктором Хауи Квеллером и Ди Квеллер. Я также встречался с шестнадцатилетним барабанщиком Беном Кентом, его родителями и пиарщиком, которого лейбл Квеллера специально прислал из Лос-Анджелеса следить за мной.
Дэнни Голдберг, владелец лейбла Mercury, сказал Тине про Бена, что это «новый Курт Кобейн». Голдберг, умевший проводить различия там, где их не было, последние двадцать лет работал с такими группами, как Led Zeppelin, Sonic Youth и «Нирвана». Про Бена Голдберг рассказал Тине в ресторане Майкла на Пятьдесят пятой улице, где посетителей встречала еще пока «не открытая» актриса Гретхен Мол. Тина решила, что это неплохая тема для Джона Сибрука.
Я знал, что у Тины и Голдберга были общие («синергетические») интересы. Скоро Mercury должен был объявить о выпуске серии дисков, на которых авторы «Нью-Йоркера» читали свои тексты. Они также поддерживали одни и те же благотворительные учреждения – Literacy Volunteers и Hale House – и принадлежали примерно к одному кругу законодателей вкусов в Нью-Йорке. Для меня взяться за это задание означало стать своего рода посредником между Тиной и Голдбергом, которые, в свою очередь, были посредниками между Саем Ньюхаусом и фирмой Polygram. Я понимал, что мне придется еще глубже погрузиться в большое теплое болото Шума, в трясину компромисса. С другой стороны, тема была довольно интересной: рок-вундеркинд, подросток, учившийся, как стать звездой, наблюдая по телевизору за звездами MTV вроде Курта Кобейна.
Я несколько дней гостил в доме Квеллеров в Гринвилле, небольшом городке в шестидесяти милях от Далласа, прошелся с музыкантами по клубам в городе, где группа Бена давала концерты. Независимо от того, был ли Бен талантлив, он однозначно был юн, и это вызвало настоящую войну из-за него между разными звукозаписывающими компаниями, сделав подходящим героем для статьи в новом «Нью-Йоркере». Бен напоминал двенадцатилетнего Кобейна. Он двигался, как Кобейн, и в нем было обаяние Кобейна. То, что я услышал в Нью-Йорке, оказалось правдой: Бен стал похож на Кобейна, наблюдая за ним по MTV. Бен показался мне таким же очаровательным, как и Голдбергу. Он был словно идеальной версией двенадцатилетнего меня – не депрессивный придурок, слушающий фолк-рок в комнате с выключенным светом, а настоящая рок-звезда.
* * *
Я попытался работать, но мои мысли уносились куда-то прочь под влиянием диска Underworld, пока я, наконец, не решил пойти домой. Холодный тротуар Сорок третьей улицы казался еще холоднее, потому что уже стемнело, и каблуки издавали еще более громкий звук, стуча об асфальт. От ветра глаза слезились, и огни Тайм-сквер расплывались. Ночь укрыла «попсовую» сторону Тайм-сквер, который теперь казался чем-то более чистым, всего лишь картинкой. На большом экране шли новости. В витрине сувенирной лавки на Седьмой авеню была выставлена атрибутика «Звездных войн». В восьми кварталах отсюда через пару часов должен был начаться матч «Нью-Йорк Никс», который обеспечит меня культурным досугом на этот вечер.
Остановившись, чтобы впустить в себя ощущение вечернего Тайм-сквер, я подумал о собственном месте в Шуме, не зная еще, что ответ скоро появится сам по себе из огромного котлована на углу Бродвея и Сорок третьей улицы.
2. Отцовский шкаф
Когда мужчина в возрасте моего отца попадает на операционный стол, всегда есть вероятность, что он с него не встанет. Но вот он сидел за завтраком всего две недели спустя после удаления костной стружки из позвоночника. И хотя он только что встал с постели, на нем был один из его сделанных на заказ английских костюмов, надевать который на себя ему было достаточно больно. Отец выглядел довольным. Он снова обманул смерть и теперь чувствовал себя бодрым и готовым к спору.
– Что ты сегодня рекламируешь? – спросил он, кивнув на мою майку с надписью Chemical Brothers.
На его лице была несколько надменная улыбка, которая должна была меня разозлить. Отец считал дурным вкусом логотипы, названия брендов и вообще любые слова на внешней стороне одежды. (Сзади на моей майке было написано DANUCHT, что на языке хип-хопа означает da new s it – «новое барахло»). Слово на майке было тем же, что и банка майонеза на обеденном столе, – неприглядным вмешательством коммерции в зону, которая должна быть свободной от нее. Даже аллигатор или игрок в поло не должен присутствовать у тебя на груди, не говоря уже о буквах.
– Это майка Chemical Brothers, – ответил я.
Последовало молчание, нарушаемое только постукиванием ножа о тарелку при намазывании повидла (которое было переложено из банки в стеклянную вазочку с серебряной крышкой) на тост (приготовленный из домашнего, а не купленного в магазине хлеба).
– И кто такие эти Chemical Brothers? – спросил отец, сделав несколько большее ударение на слове «кто».
– Это техно-группа из Англии. Я был месяц назад на их концерте и купил там эту майку.
Никакого ответа, лишь едва заметный, утонченный кивок головы – ироническая благодарность за ужасно интересную информацию.
Мой отец относился к подобным вещам серьезно. Если ты начал выходить к завтраку в майках со словами, то скоро начнешь смотреть днем телевизор или курить. Когда я рос, в нашей семье такого не делали. В редких случаях детям позволялось посмотреть телевизор – например, «Удивительный мир Диснея» в воскресенье вечером, – но только не в рабочий день.
– Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо, – отвечал отец на мои жалобы на то, что мне не о чем поговорить с другими детьми в школьном автобусе.
Но я не сказал ему спасибо. Я упустил ценную возможность научиться состраданию посредством телевидения. К счастью, когда мы были предоставлены миссис Хайлс, которая приходила постирать, убрать, приготовить обед и присмотреть за нами после школы, телевизор работал, и я, по крайней мере, смотрел «Остров Гиллигана» и Star Trek.
И дело было вовсе не в том, что отец считал нашу семью совершенно не такой, как семья жившей по соседству миссис Хайлс. Он знал, как мало различий было между семьями Сибруков и Хайлсов, но именно поэтому культурные различия были столь важны. И это касалось всей Америки. Никто не хотел говорить о классовом устройстве общества, это считалось дурным вкусом даже среди богатых. И поэтому люди предпочитали деление на «высокое» и «низкое». Пока существовала эта система, она допускала значительную степень равенства разных классов. Стоило лишь убрать эту старую культурную иерархию, и социальные отношения между разными социально-экономическими уровнями тут же становились более грубыми, потому что сводились к деньгам.
Я мог бы попытаться объяснить отцу, что в моем мире, находившемся всего в двух часах езды от Нью-Джерси, существовала большая разница между майкой с надписью DANUCHT и майкой с надписью, например, BUDWEISER или MARLBORO. В системе, где аутентичность важнее качества, майка Chemical Brothers откроет для меня больше дверей, чем костюм отца. (Люди в таких майках ходят сейчас на очень модные вечеринки Паффа.) Но культурные предпочтения моих родителей, из которых я сам когда-то вырос, казались мне совершенно нереальными. В любом случае, было еще слишком рано, я чувствовал раздражение и усталость, в доме было очень жарко, и я, наверно, проиграл бы, если б попытался затеять спор с Серебряным Лисом (так называли отца, когда он был большим боссом). Поэтому я не сказал ничего и почувствовал себя в какой-то степени предателем, так как не попытался не допустить коммерциализм моего нью-йоркского существования в спокойную и благородную жизнь здесь на ферме.
* * *
Мой отец был известен своей любовью к нарядам. Когда я вспоминаю его долгую и наполненную событиями жизнь, то в разные ее моменты он неизбежно предстает передо мной в великолепно сшитых на заказ костюмах. И я вижу гардероб, в котором эти костюмы висят. Если посмотреть на него снаружи, то это обычный, хорошо оборудованный гардероб успешного бизнесмена. Только открыв его, вы увидите огромную коллекцию костюмов, висящих на автоматических вешалках, как в химчистке, уходящих сквозь потолок второго этажа вверх до самого чердака. Здесь собрана практически вся одежда его жизни. На внутреннем кармане большинства сшитых на заказ костюмов есть точная дата. Вы можете встать в дверях первого этажа, нажать на кнопку, и перед вами проплывет вся история жизни моего отца в виде его костюмов, которые он носил в разные ее периоды.
Рядом с этой гардеробной были другие. В одной – рубашки от Sulka, Lesserson или Turnbull & Asser, в следующей – шелковый водопад галстуков всех вообразимых оттенков. Затем полки с обувью, от парусиново-кожаных ньюмаркетских в самом низу и – по мере возрастания чувства элегантности – до коричневых полуботинок, узконосых лакированных туфель, укрепленных ботинок на толстой резиновой подошве, черных туфель с загнутыми носами и, наконец, бальных туфель из лакированной кожи.
Можно сказать, что отец унаследовал этот гардероб от своего отца. Не сами предметы одежды и обуви, а понимание, что английский костюм, если его носить правильно, может стать мощным источником движения вверх по иерархии статуса. Без своей одежды мой дед был просто необразованным человеком, который большую часть своей жизни копался в грязи. (Фермеры в этих краях до сих пор иронически используют выражение «грязный фермер», как будто грязь – это продукт, который они производят.) Но в костюме от Savile Row мой дед был человеком со значением, грацией и хорошим вкусом.
Мой отец был в большей степени экспериментатором в одежде, своего рода герцогом Эдинбургским, каким его сыграл Дуглас Фербенкс-младший. В юности он экспериментировал с элементами стиля Brooks Brothers, с которым познакомился, будучи студентом в Принстоне, и стилем Эдварда, принца Уэльского, унаследованным от своего отца, придя к некоему собственному их синтезу около 1950 года: двубортные костюмы с высоким поясом, широкие лацканы, свободные в талии, но с глубокими клапанами сзади. Пошив костюмов был достаточно консервативным, но рядом с традиционными формами могли появляться розовый и лиловый цвета сорочек, расплывчатые точки на галстуках и тонкие зеленые полосы на костюмах, символизируя внешний вид процветающего бизнесмена.
Отец создал для себя целый мир одежды. У него были костюмы с длиннополыми пиджаками, английские костюмы, шерстяные костюмы, костюмы из саржи и габардина, белые льняные костюмы для Палм-Бич и Ямайки до появления кондиционеров, костюмы из шотландки и укороченные полуприлегающие пальто для посещения футбольных матчей между Гарвардом и Принстоном и пальто с енотовым воротником для посещения матчей между Принстоном и Дармутом, которые были позднее в сезоне. Костюмы для различных типов деловых мероприятий: от убеждения финансистов в жизнеспособности нового проекта (яркие полоски) до умиротворения разъяренных акционеров, чья доля в компании уменьшится из-за новой инициативы менеджмента (скромный костюм из гладкой блестящей ткани). Потом, по мере того как подход «жить значит одеваться» принес свои плоды на работе, появились специальные костюмы и для исключительно утонченных социальных мероприятий, от бракосочетаний в одиннадцать и похорон в семь до крестин, конфирмаций и причастий и, наконец, одежда для утонченного хобби отца – скачек на четверке лошадей. Последнее предусматривало пугающее разнообразие возможных вариантов одежды в зависимости от времени суток, от того, в городе или за городом проходят соревнования, являешься ли ты зрителем, участником, членом клуба или его гостем. Пальто три четверти с разрезом, полосатые брюки, изысканные полупальто, высокие шляпы – эта часть гардероба моего отца граничила с настоящим маскарадом.
Шестидесятые годы накатили на мощные плечи отца, одетые в английскую шерсть, и откатились назад, оставив после себя лишь один интересный след: синий бархатный смокинг «неру», украшенный светло-синим психоделическим орнаментом из цветов и листьев, и подходящие к нему темно-синие брюки. Смокинг был сшит у Blades в Лондоне и датирован 25 апреля 1968 года – период, когда «неру» недолго был модным в популярной культуре в основном благодаря лорду Сноудону, который одет в костюм «неру» на известной фотографии в журнале Life в шестидесятых годах.
Когда отец был не в костюме, он был либо в пижаме (удобной хлопковой пижаме, как у Джимми Стюарта в фильме «Окно во двор»), либо вообще без ничего. Он часто бывал голым. Своими купаниями в бассейне в обнаженном виде он смутил немало моих друзей. Но его обнаженность была и своего рода формой одежды, в том смысле, что представляла собой зрелище. Отцу было непонятно, как можно одеваться, не уделяя должного внимания одежде, только лишь чтобы не мерзнуть и чувствовать себя удобно, как это делает большинство людей, в сущности, являясь, по его мнению, не голыми, но и не одетыми.
* * *
Откуда пришла информация, необходимая для того, чтобы воплотить образ англо-американского аристократа в одежде? В основном из популярной культуры: из журналов, книг и фильмов о британской аристократии, из пьес Ноэла Кауарда, из костюмов Сесил Битон в «Моей прекрасной леди», Кери Гранта в «Филадельфийской истории» и Грейс Келли в «Высшем обществе», из «Нью-Йоркера». Это был один из секретов американской аристократии; до какой-то степени ее представления о том, какой она должна быть, основывались на фантомах, придуманных потенциальными кандидатами в эту элиту – евреями во главе голливудских студий, писателями вроде Скотта Фитцджеральда и Престона Стерджеса и редакторами вроде Уильяма Шона, который был сыном чикагского торговца ножами Бена Чона.
Как-то в середине восьмидесятых, навещая родителей, я увидел, как мой отец с ненавистью вырывает из журнала рекламу Ральфа Лорена. Это происходило примерно тогда, когда Лорен переходил от джинсовой одежды к спортивной и «полному маркетингу стиля жизни» (материалы для ремонта, простыни, элементы внутреннего дизайна). В журналах публиковалась реклама со словами Ральфа: «Существует такой способ жить, в котором есть красота и элегантность. Это не постоянная погоня за новым, а умение ценить то, что было раньше. Существуют глубина и качество полноценного и осмысленного опыта… Это то качество жизни, в которое я верю…».
– Ральф Лорен оскорбляет меня, – сказал отец, вырвав с раздражением еще одну страницу.
Такая его реакция удивила меня. По крайней мере, заявления Ральфа Лорена не слишком противоречили взглядам отца на культурные ценности. Отец не возражал, чтобы некоторые его наряды для езды на четверках были показаны на выставке «Человек и лошадь» в музее «Метрополитен», которую частично финансировал Ральф Лорен. Но после того как я немного подумал над его поведением, оно уже не показалось мне странным. Делая образ аристократа вроде моего отца доступным каждому, Ральф Лорен представлял собой угрозу идентичности отца как американского аристократа. Эту индивидуальность отец, как и Ральф Лорен, изобрел сам из куска ткани. Конечно, мой отец никогда не надел бы что-либо от Ральфа Лорена, потому что пошел дальше него. И в этом было его отличие, его «след на песке».
Что до меня, бывшего гораздо ближе к эстетике ноубрау, то я воспринимал рекламу Ральфа Лорена не как угрозу моей идентичности, а как ее утверждение. Когда я учился на втором курсе в Принстоне, в гребной клуб пришли люди, набиравшие фотомоделей для Ральфа Лорена. Идея состояла в том, чтобы гребцы студенческого вида позировали прямо в клубе в одежде от Ральфа Лорена для гребли (джерси с горизонтальными полосами, свитеры без воротника). Вы можете подумать, что нам, студентам-гребцам, вовсе незачем было стремиться попасть в рекламу Ральфа Лорена. Но если вы так подумаете, то будете жутко неправы. Почти все участники гребной команды записались на пробы. Одно дело – быть аристократом по рождению, и совсем другое – когда тебя выбирают, потому что твой образ вписывается в коммерческую культуру. Когда меня, в конце концов, не взяли, я пытался утешиться тем, что выбрали тех, кто выглядел фальшивым аристократом, но это было слабым утешением.
* * *
Я приехал к родителям, чтобы поддержать их в трудный период. Гораздо большую тревогу, чем спина отца, вызывало сердце матери. Еще в детстве у нее обнаружили ревматизм, и она росла с пониманием того, что у нее «сердце». Ее мать говорила ей, что надо избегать волнений, и иметь детей означало, конечно же, слишком большую нагрузку на сердце. В последние годы проблемный митральный клапан вызывал у матери одышку, которая теперь начиналась всякий раз, стоило ей подняться на три-четыре ступеньки. Доктора сказали, что, если не сделать операцию, мать станет инвалидом. Но она была уверена, что не перенесет операцию.
В конце концов, обсудив все с нами, мать решилась на операцию по замене клапана в одной из клиник Кливленда. Оперировал ее доктор Косгроув, лучший специалист по таким операциям в стране, как заверил нас отец. Он надеялся использовать новую технологию, при которой делается лишь восьмисантиметровый надрез, но выяснилось, что хирург не может получить доступ к клапану при таком разрезе из-за шрамовой ткани. В конце концов, ему пришлось вскрыть грудную клетку.
Мать пережила операцию и начинала выздоравливать, но в ней что-то изменилось. Если раньше она была уверенной в себе, решительной и смелой, то сейчас у нее по ночам начались приступы паники. Она думала, что причина в слишком позднем ужине, и мы ужинали раньше, но приступы паники повторялись. Однажды я попытался заговорить с матерью об этом, но выяснилось, что разговор об этом вызывает у нее еще большую панику.
Я допоздна читал в библиотеке, потом вслушался в тишину, нарушаемую лишь тиканьем часов из позолоченной бронзы. Я встал и в носках прошел по темным комнатам. Мое понимание культуры дома, это неоклассическое разделение на первый и второй этажи, было как-то связано с этим конкретным домом, в котором я вырос. В нем было много мебели красного дерева эпохи регентства, массивных часов и несколько обюссонских ковров. Комнаты выглядели элегантно, но не роскошно, хотя о них нельзя было сказать: «Мы слишком культурны, чтобы об этом заботиться». Мой отец слишком близко сталкивался с реальной убогостью, чтобы погрузиться в нее самому. Наш дом был квакерской фермой восемнадцатого века, и его примитивная архитектура не способствовала украшениям. Картины на стенах были не слишком ценны, но и не плохи; они занимали свое место с достоинством. Некоторые из них были портретами семей девятнадцатого века, которых уже никто не помнил. Отец купил большинство из них на аукционе много лет назад. Был среди них и испанский семейный портрет в стиле Гойи. Кажущиеся мертвыми глаза ребенка, отворачивающегося от груди матери, похожей на мадонну эпохи ренессанса, вызывали у меня немало кошмаров в детстве.
Это был стиль гегемонии: вкус как власть, притворяющаяся здравым смыслом. Идея, что вкус – это власть, впервые пришла мне в голову на семинаре Реймонда Уильямса в Оксфордском университете в 1983 году. Семинары Уильямса теперь кажутся подлинным началом моего знакомства с ноубрау – реальным миром культуры, в котором я позднее оказался, работая в «Нью-Йоркере» Тины Браун. Семинар был частью серии лекций, организованных Оксфордским английским союзом – группой студентов-литературоведов, выступавших против традиционной оксфордской литературной критики. Арнольдовский принцип отбора «лучшего, что существует в мире», применялся в двадцатом веке такими критиками, как Ф.Р. Ливис и Т.С. Элиот. Маяками для союза, напротив, были Деррида, Альтюссер и Грамши – итальянский автор концепции гегемонии.
Несколько месяцев я замечал большевистского вида листовки союза, анонсирующие дискуссии о ключевой роли расы, пола, класса, идентичности и «инаковости» в формировании литературных суждений. Глядя на эти листовки, висящие на доске объявлений рядом с почтовым ящиком моего колледжа, я презрительно улыбался. На каком-то подсознательном уровне я понимал, что эти идеи противоречили моим интересам и планам на будущее, которые в той или иной степени предусматривали, что я самостоятельно выберу лучшее из того, что существует в мире. Авторитетность таких суждений должна была зависеть от моего «культурного капитала», то есть от изучения и понимания канонов, отобранных Ливисом, Элиотом и другими. С другой стороны, союз пропагандировал совершенно другие ценности, систему мультикультурного капитала, которая неизбежно обесценила бы мой культурный капитал. Старая система ценила однородность и традиционность, а в новой гораздо важнее были различия. Маргинальные группы с минимумом культурного капитала – необразованные женщины, бедняки, уличные рэперы и художники граффити, стоящие лишь на ступеньку выше обычного криминалитета, – могли оказаться богачами с точки зрения мультикультурного капитала в результате того, что Пьер Бурдье назвал «иерархией угнетения».
Реймонд Уильямс был одной из ключевых фигур британской культурологической школы. В прошлом он был учеником Ливиса, но потом порвал с ним, объяснив это в своем великолепном эссе «Культура ординарна» различиями во взглядах на то, что Ливис считал механистической вульгарностью современного массового общества, а Уильямс – единственным способом спасения для бедных и не образованных людей. В любом случае, в использовании Уильямсом новой идеологии было гораздо больше нюансов, чем у большинства его последователей, и, узнав, что он будет читать лекцию, я решил, что, наконец, пора посмотреть, что это за Оксфордский литературный союз.
Уильямс начал свой семинар с любовных романов девятнадцатого века – едва ли не самой ранней и продолжительной формы массовой литературной культуры. Он обратился к аудитории с вопросом, по каким стандартам следует оценивать эти книги и какие критерии качества к ним применять. Послушав несколько реплик, я поднял руку и предположил, что единственным критерием для этих книг будет вкус. В том, что я сейчас считаю вкусом среднего класса (а тогда считал единственно возможным вкусом), индивидуальный вкус человека зависел от изученного им канона. Вкус был моим культурным капиталом, сгущенным до состояния сиропа. Обладая преимуществом такого вкуса, можно было с уверенностью оценивать любовные романы: язык был штампованный, сюжеты неинтересны, мораль банальна. Короче, это были плохие книги.
Справа от меня сидел студент, которого я раньше видел в библиотеке. Сейчас, когда он смотрел на меня, я почувствовал всю силу его презрения: вот еще один тупой американец, на лбу у которого написано: «Гегемония».
– Как ты смеешь болтать о вкусе, когда в мире есть люди, которым нечего есть? – закричал он.
Даже четырнадцать лет спустя, идя по тихим не освещенным коридорам погруженного в темноту родительского дома, я вздрогнул от желчности его обвинений. Я снова пытаюсь защитить себя, применив l’esprit de l’escalier, и говорю, что есть два типа вкуса – вкус к приятному и вкус к прекрасному, и вспоминаю серьезность, с которой Кант относился к этому делению. По Канту, человек вкуса может делать адекватные суждения только с полным желудком («Установить, кто обладает вкусом, а кто им не обладает, можно только тогда, когда удовлетворена потребность»). Но этот аргумент уступает по своей силе позиции моего оппонента, согласно которой никто не имеет права выносить суждения, пока другие люди голодают. Ведь вкус основывался прежде всего на привилегии. В том, что культурные арбитры прошлого обладали привилегиями, не было ничего удивительного. Удивительно было бы, если бы они ими не обладали. Но для этого студента привилегия уже сама по себе была достаточной причиной, чтобы подозрительно относиться к культурному арбитру. Незаинтересованность, гарантировавшая доверие к последнему в системе Канта, естественным образом превращалась в недоверие к нему в гегемонистской системе.
Пока я заканчивал свою тираду на тему вкуса, другие студенты в аудитории шумели и смеялись надо мной. Они были рады разоблачить маскировавшегося до сих пор гегемониста – высокомерного идиота, придерживавшегося старых иерархических различий, каким может быть только американец.
* * *
– Как дела в «Нью-Йоркере»? – спросила меня мать на следующий день.
Я заметил, что это было одним из важных достижений «Нью-Йоркера» Тины Браун: она определенно вернула журнал в сферу интересов моих родителей, хоть и маргинализировав при этом их стиль жизни. То, что у них был внутренний источник информации о том, что происходило в активно обсуждаемом «Нью-Йоркере» Тины, повышало их статус в своих кругах. Надо признать, что все обожают слухи, и Шум, как только ты в него попадаешь, гораздо интереснее соблюдения формальностей.
И все же мать волновалась, что в Нью-Йорке я не получаю достаточно культуры. Когда я в последний раз был в театре? Может, полгода назад. В опере? Пожалуй, несколько лет назад.
– Но я хожу в кино, – сказал я.
Я не сказал ей про ночные концерты в клубах и гангста-рэп в моем плеере. К чему расстраивать бедную женщину?
В детстве именно мать отвечала за наше культурное образование. Например, она ездила со мной на дневные детские оркестровые концерты в Филадельфию. (Мой отец достиг культуры во французском смысле этого слова, то есть «окультуренного» состояния, но все, располагающееся в границах немецкого понятия Kultur, – величайшие художественные, интеллектуальные и религиозные достижения цивилизации – не было ему ни интересно, ни полезно.) Мне досаждало, что по субботам приходится ездить на эти концерты, вместо того чтобы поиграть с друзьями в футбол. И все же, сидя в полутьме концертного зала на красных бархатных сиденьях, от которых мои ноги потели и чесались, и слушая, как молодой дирижер Сейджи Озава, недавно назначенный руководителем Бостонского симфонического оркестра, рассказывал о музыке, которая только что была исполнена, я понимал, что представляет собой элитарная культура. Я ощущал ее высокую серьезность и неотразимую тайну, открытую для всех, но постижимую только немногими, «элитарным сообществом, довольно снобистским, но к которому мог присоединиться любой, кому эти странности интересны», как написал Дуайт Макдоналд. Это отличалось от, скажем, поп-музыки на радио. Но в чем была разница?
Увы, все попытки матери раздвинуть мои культурные горизонты дальше поп-культуры ни к чему не привели. Симфоническая музыка была великолепна, но дома я предпочитал слушать только поп – «Битлз», CSNY, Woodstock и «Волосы». Ближе всего я подошел к опере, слушая «Томми», «Квадрафению» и «Иисус Христос – Суперзвезда», с которыми познакомился в одиннадцать лет и которые наложили отпечаток Нового Завета на депрессивный индивидуальный страх и псевдоаутентичность фолк-рока.
Я без возражений соглашался, что классическая музыка на порядок выше по качеству, чем поп, и что рано или поздно я смогу оценить ее по достоинству. Поп-музыка была прикольной, веселой, лиричной, открытой, честной, но в то же время абсолютно фальшивой. Она был символическим языком для выражения того, о чем не скажешь словами в реальной жизни, – любви, боли, счастья. Если бы мне тогда сказали, что в тридцать семь лет я все еще буду слушать поп-музыку, я бы не поверил (я ведь не был идиотом). Но я знал и то, что, сидя без света в своей комнате и слушая, как Нил Янг поет Sugar Mountain, я получал опыт, который по своей важности и влиянию на мою жизнь никогда не сравнится с миром культуры моих родителей.
* * *
Отец использовал свою одежду, чтобы передать мне культуру. Я, в свою очередь, использовал одежду, чтобы противостоять этим его попыткам. В детстве у меня было множество красивых вещей, купленных родителями, но я делал все возможное, чтобы их не носить. Не стараясь сделать это специально, я рвал шелковую подкладку великолепного пальто из верблюжьей кожи, подаренного отцом, терял пуговицы от костюма Brooks Brothers, отрывал по швам карманы вечерних костюмов.
– Ты плохо относишься к своей одежде, – говорила мать.
И она была права. В том возрасте мой шкаф был объектом применения злобы, которую я направлял на невинные предметы одежды. Казалось, что внутри меня под всеми этими дорогими одеждами неистовствует, пытаясь вырваться наружу, «грязный фермер». С другой стороны, мой брат, казалось, совершенно безболезненно перенял отцовское отношение к одежде. Его шкаф был своего рода подростковой версией гардероба моего отца. Мой шкаф был антигардеробом.
Родителей обрадовало, что, став взрослым, я приобрел размеры и комплекцию отца. Конечно же, отец был очень доволен. В детстве он не уделял мне много времени, потому что был занят зарабатыванием всех тех преимуществ, которыми мы пользовались. Мы никогда не играли вместе в мяч и не ходили в походы – даже если у него было время, у него не было подходящей одежды для этого. Но теперь он был готов стать моим другом и советчиком в искусстве одеваться так, чтобы добиться успеха во взрослом мире.
Мать также была довольна. Ей, выросшей в бедности, трудно было смириться с тратами отца на одежду, и ему даже приходилось иногда тайком проносить в дом новые покупки. По крайней мере сейчас, предполагала она, его безрассудная экстравагантность будет иметь практическую пользу: мне никогда не понадобится покупать одежду самому. Я мог носить костюмы отца, начиная с самых старых и постепенно продвигаясь по замкнутому кругу его гардероба.
Вскоре после того как я переехал в свою первую квартиру в Нью-Йорке, отец отвел меня к своему нью-йоркскому портному Бернарду Везерхиллу, чтобы подогнать для меня парочку костюмов. Ателье располагалось на втором этаже на одной из центральных улиц без всякой рекламы – только табличка с именем на стене дома, мимо которой вы проходите каждый день, даже не замечая ее. Делавший обмеры мужчина был пожилым седоволосым англичанином. Его несколько сутулая фигура естественным образом соединяла в себе классовое почтение и груз многолетних наклонов при обмерах юных джентльменов вроде меня. Казалось, его чрезвычайная благопристойность высасывает из воздуха весь кислород.
Пиджаки оказались мне практически впору – несколько великоваты, но длина рукавов была в самый раз. Отец и портной излучали довольство. Однако брюки нужно было сузить. Делая обмеры, портной попросил меня «стоять естественно». Но по какой-то непонятной причине я вдруг забыл, что значит стоять естественно. От меня словно ускользнуло понимание осанки.
– Почему ты так стоишь? – спросил отец. – А ну, перестань!
Позже он отвел меня к А Ман Хинг Чонгу, своему гонконгскому портному, чтобы «подмерить» несколько «деревенских» (из шотландки) костюмов, за которыми должны были последовать многие другие. («Крупные мужчины могут носить крупную клетку, не рискуя быть похожими на гомосексуалистов», – сказал мне однажды отец.)
– Какая сторона? – спросил портной, говоривший немного по-английски.
Он стоял передо мной на коленях, водя пальцем по ширинке.
– Он спрашивает, на какую сторону ты носишь член, – сказал отец.
– Да, да, ч-ч-член! – радостно повторил портной.
Но все усилия отца, чтобы я одевался в стиле молодых джентльменов, одним из которых, как он надеялся, я вскоре стану, не увенчались успехом. Дома я ходил в джинсах и майках с надписями всех возможных типов – названия телепередач, брендов, спортивных команд, «Звездные войны», MTV, Ральф Лорен, Кельвин Клайн, «Иисус Христос – Суперзвезда». Если у меня и был какой-то стиль, то это был «дурной вкус» семидесятых: множество коричневого цвета, расклешенные штаны, вельвет и рубашки из полиэстера. На подсознательном уровне я смутно ощущал, что майки с надписями – это и есть моя культура, и это было единственным выходом из несколько более просторной клетки гегемонии, в которую отец загонял меня своими костюмами в мелкую и крупную клетку.
* * *
Мы поужинали в комнате для официальных обедов, как делали это всегда. Я попытался «исправиться». В последние годы у меня начало формироваться нечто вроде индивидуального стиля из того разнообразия брендов, которым я доверил свою индивидуальность: джинсы от Хельмута Ланга, рубашки с мягкими воротниками от Катарины Хамнетт, облегченные темно-синие блейзеры от Hugo Boss и носки от Пола Смита. Я был рад распространению искусственных материалов вроде винила и лайкры, соединявших в себе свойство шерсти не мяться и легкость хлопка и придающих одежде способность тянуться, которую сейчас настойчиво подчеркивают все продавцы.
Составлять свой первый самостоятельный гардероб я начал в Сохо. Одной из причин, по которым я выбрал журналистику, была возможность в отличие от моего отца никогда не надевать галстук. Но всякий раз, когда я получал гонорар за свои статьи, над которыми работал в майках с надписями, случалось нечто неожиданное. Получив очередной чек, я не мог придумать никакого лучшего применения деньгам, чем потратить их на одежду. Положив чек в карман, я шел сначала в банк, потом в Сохо. Со стороны казалось, что я спокойно стою в магазине Аньес Би, задумчиво изучая, из какого материала сделана вещь, но внутри меня уже бушевал модный маньяк. Двести долларов за пару брюк! Но ведь у них рубашка стоит сто тридцать. Значит, двести за брюки – это, в общем, недорого. Разумными доводами я постепенно убеждал себя, что эта цена не так уж и высока, пока, наконец, не говорил себе: «Ладно, беру». Подписывая чек, я ощущал себя так, словно только что попал в аварию и еще не мог в это поверить. Потом, доказывая себе, что брюки за двести долларов – это не так уж и дешево, я тратил еще столько же на свитер из мериносовой шерсти.
Меня притягивали дорогие бренды. Только известное модное имя могло преодолеть притяжение гегемонистского суккуба, жившего в одежде моего отца. Естественно, для отца сама идея дизайнерских брендов в мужской моде была смехотворной – еще один триумф маркетологов над творцами. Что эти женоподобные дамские портные понимали в мужской моде? В первый раз я надел дорогой итальянский костюм от Ermenegildo Zegna, купленный на собственные деньги, чтобы пообедать с отцом в ресторане «21». Он пришел первый, и, когда я вошел в ресторан, его внимание мгновенно привлек мой бесклапанный, узкий в бедрах пиджак свободного покроя. Вудхаус, описывая реакцию Дживза на то, что его господин надел ярко-красный шарф с вечерним костюмом, написал, что «Дживз попятился назад, как испуганный мустанг». Мой отец на этот движущийся к нему среди клетчатых скатертей итальянский костюм среагировал так же. Он пришел в себя как раз вовремя, чтобы сердечно поприветствовать меня, а затем, отвернув полу костюма большим и указательным пальцами, посмотрел на лейбл.
– Хмм, – сказал он тихо.
И это было все, что он произнес. Звук конца света.
Но сегодня, чтобы порадовать родителей, я надел старый отцовский габардиновый костюм. Это был сюрприз. Я нашел его на чердаке накануне, отдыхая от своей работы за ноутбуком. Я надел пиджак поверх майки и с удовольствием ощутил прохладный шелк подкладки на голых руках. Пиджак сидел на мне практически идеально. Дата на внутреннем кармане была 2 апреля 1958 года; отцу, когда он заказал этот костюм, было столько же лет, сколько мне сейчас. В нем даже были скошены карманы, как у костюмов стиля «новый модерн» от Пола Смита.
Отца порадовало, насколько впору мне пришелся костюм. Мать, похоже, тоже была по-настоящему рада, я впервые видел ее такой после операции. Она сказала, что я должен надеть костюм на презентацию моей книги в торговом центре в штате Делавэр, которая должна была состояться на следующий день; они пригласили своих друзей из Уилмингтона.
– К старому костюму требуется бутылка старого вина! – объявил отец.
Передвигаясь медленно, но решительно, он спустился в винный погреб и принес бутылку великолепного вина – палмер, урожай 1975 года. Я вы звался перелить вино в графин. В детстве мне отказывали в привилегии переливания вина в графин, боясь, что я могу поглумиться над этим ритуалом или в лучшем случае не выполню его с достаточной тщательностью. Но в тот вечер я был благодарен родителям за возможность показать им, что я могу сделать все правильно.
Разглядывая великолепную красную жидкость, освещенную свечами, чтобы убедиться в отсутствии осадка, я подумал о доме в Лос-Анджелесе, где недавно оказался, исследуя Шум. Это было на Брентвудских холмах, в поясе нового богатства, сформировавшегося вокруг музея Гетти, который возвышается над ним, как пирамида Хеопса. Там я видел, как, открыв бутылку петрю урожая 1975 года (любимое вино Фрэнка Синатры), ее не переливали в графин, а наливали прямо из бутылки, этикеткой книзу, с осадком. В этом способе употребления вина было какое-то особое удовольствие, столь же чистое, что и удовольствие моего отца, но без этой скучной части, понятной лишь знатокам, – вульгарное, тупое и пустое. Я с удовольствием подумал, как хорошо иметь отца, который знает ритуал.
Я вернулся к столу с графином и налил немного отцу на пробу. Край стакана тихонько звякнул, соприкоснувшись с графином. Я осторожно поворачивал запястье, стряхивая последние капли – так делали официанты в ресторане «21». Отец кивнул, бесшумно и осторожно поднял бокал со стола и взболтнул в нем вино.
– За твой новый костюм, – сказал он и улыбнулся через стол матери, которая подняла свой бокал с водой и тоже улыбнулась.
Отец поднес вино к губам и влил его в себя без всасывающего звука, лишь вдохнув носом, чтобы почувствовать аромат. Он проглотил вино, бесшумно поставил бокал на стол и спокойно, с полной уверенностью сказал:
– Это хорошее вино.
3. От аристократизма к супермаркету
Та же самая проблема, что встала перед «Нью-Йоркером» в девяностые годы, была типична и для многих культурных институтов – музеев, библиотек, фондов: как впустить в себя Шум, чтобы сохранить живость и кредитоспособность, но при этом не потерять своего морального авторитета, который хотя бы отчасти основывался на исключении Шума?
В «Нью-Йоркере» дело осложнялось тем, что, делая выбор между тем, что представляло ценность для читателя, а что – нет, журнал являлся носителем определенного статуса. Это, собственно, и позволяло Уильяму Шону издавать очень «успешный» журнал, вроде бы и не заботясь о коммерческом успехе: отрицание грубой коммерческой культуры было аристократическим идеалом, и это подкупало рекламодателей. Но сохранение олимпийской дистанции от Шума, в конце концов, привело к тому, что «Нью-Йоркер» Шона стал никому не интересен. Кричащие противоречия в головах читателей совершенно не состыковались со спокойным потоком мысли на страницах журнала. «Нью-Йоркеру» требовалась новая система различий внутри Шума, который отвергал все различия и присваивал себе все точки зрения. Трюк состоял в том, чтобы сыграть на репутации старого журнала, который не публиковал ничего с «коммерческой» целью, чтобы вызывать сенсацию, заработать скандальную репутацию, стать популярным, модным и «успешным», как раз это самое и делая.
MTV стал моим приглашением в то, что я позже назвал ноубрау. Очень неконкретная идея Тины состояла в том, чтобы я провел какое-то время на MTV и написал, как функционирует этот телеканал. Несмотря на историческую и культурную удаленность друг от друга, MTV располагался достаточно удобно, на углу Сорок четвертой и Бродвея, в пяти минутах ходьбы от «Нью-Йоркера». И я целый месяц перемещался туда и обратно, к Тайм-сквер и назад.
Мои ежедневные перемещения между «Нью-Йоркером» и MTV были заодно и перемещениями между культурой аристократии и культурой супермаркета. Если в первой главенствовала симметрия, то во второй – многогранность. В первой стояла тишина, а во второй, напротив, звучала какофония. Первая олицетворяла собой тщательно классифицированный коммерциализм мира моего отца, а вторая – буйный коммерциализм моего мира. Вместо нью-йоркеровских разграничений между элитарным и коммерческим здесь существовали различия между культовым и массовым. В аристократической культуре ценность определялась качеством, а в культуре супермаркета – аутентичностью. В аристократической культуре ценилась последовательность культурных предпочтений, а в культуре супермаркета – предпочтения, нарушавшие традиционную культурную иерархию. В аристократической культуре присутствовали содержание и его реклама, а в культуре супермаркета границы между ними не существовало. Музыкальные видеоклипы были искусством, едва ли не лучшим визуальным искусством на телевидении. Но они же были и рекламой музыки, и деньги на их производство давали музыкальная индустрия или сам артист, а не MTV.
Я попытался отразить все это схематически. Культура супермаркета получилась такой:
Индивидуальность
Субкультура
Культура мейнстрима
А аристократическая культура выглядела так:
Высокая культура
Культура среднего интеллектуального уровня
Массовая культура
Если старая иерархия была вертикальной, то новая иерархия ноубрау существовала в трех или больше измерениях. Субкультура выполняла ту же роль, что когда-то и высокая культура: здесь вырабатывались тенденции для культуры вообще. В ноубрау субкультура была новой высокой культурой, а высокая культура превратилась лишь в еще одну субкультуру. Но над субкультурой и мейнстримом находилась идентичность – единственный общий стандарт, кантианская «субъективная всеобщность».
Начав с супермаркета и двигаясь в обратном направлении, можно узнать кое-что об эволюции ноубрау. Здание аристократической культуры всегда было разделено на верхний и нижний этажи. На верх нем вместе с признанными творцами располагались богатые люди, на чьи деньги строились музеи и оперные театры, в которых бережно хранилась высокая культура. На нижнем этаже находились массы, смотревшие сериалы вроде «Копов», слушавшие гангста-рэп и читавшие «Нью-Йорк пост». Если массам вход на верхний этаж был воспрещен, то элита иногда снисходила на нижний уровень, словно Кейт Уинслет, спустившаяся с верхней палубы в фильме «Титаник», чтобы насладиться простыми радостями и поностальгировать о временах до первородного греха, превратившего культуру в товар и сделавшего необходимым существование бастиона аристократической культуры.
А почему это было необходимым? Чтобы защитить настоящих художников и писателей от атак рынка. Бастион аристократической культуры сформировался в конце восемнадцатого столетия, когда отношение художника к тем, кто его финансировал, начало меняться. Меценатство угасало, читатели среднего класса и коммерческие издательства, напротив, множились, художники и писатели, подчинявшиеся раньше диктату своих покровителей, были брошены на милость рынка. И если в некоторых отношениях этот новый покровитель, рынок, оказался более лояльным – художнику, например, впервые была дана свобода в выборе тем для своего творчества, – то в других отношениях рынок оказался еще большим тираном. Он был необразован, нечувствителен, на него легко было нагнать скуку, и он плевать хотел на высокие стандарты старых покровителей. Некоторым художникам и писателям удалось угодить новому покровителю лишь за счет принесения в жертву старых стандартов.
Таким образом возникла необходимость в системе, которая бы позволила отделить творцов от ремесленников, и подлинное искусство старой аристократии от коммерческого искусства, производимого культур-капиталистами для только что урбанизированных масс. Таким образом, романтическое понятие «культура» эволюционировало для удовлетворения этой потребности. Само слово, по мнению Вордсворта и Колриджа, имело два источника происхождения: французское civilisation, означавшее процесс интеллектуального, духовного и эстетического развития, и немецкое Kultur, описывающее любой характерный стиль жизни. Французское слово было консервативным и однозначным, включая в себя и моральную составляющую, немецкое – более релятивистским и не связанным напрямую с моралью. Английское слово culture стало гибридом этих двух, хотя в девятнадцатом веке и было ближе по употреблению к строгому французскому отцу, чем к более вольной немецкой матери. Поскольку культура пришла в Америку из Франции и Англии, французское значение слова доминировало.
Согласно романтической концепции культуры, произведения настоящих художников и писателей были высшей реальностью – работами, которые благодаря своей креативности возносились над повседневным миром стандартной культурной продукции. Сами художники считались исключительными, одаренными существами со сверхъестественными талантами – страстными гениями, творившими не на продажу, а во имя высшего идеала. Как написал Реймонд Уильямс в книге «Культура и реальность», «известно, что одновременно с ростом рынка и идеи профессионального производства возникла и другая система восприятия искусства, в которой самыми важными элементами являются, во-первых, особое отношение к произведению искусства как “творческой истине”, и, во-вторых, признание творца как особого существа. Существует соблазн рассматривать эти теории как прямой ответ на последние изменения в отношениях между художником и обществом… Во времена, когда художник воспринимается лишь как еще один производитель рыночного товара, сам он считает себя особо одаренным человеком, путеводной звездой повседневной жизни». Короче говоря, понятие «культура» всегда было частью разумной рыночной стратегии.
От Вордсворта до группы Rage Against the Machine искусство, созданное из идеалистических соображений при явном пренебрежении рыночными законами, считалось более ценным, чем искусство, созданное для продажи. Художнику было недостаточно просто иметь талант давать людям то, что они хотят. Для достижения славы художнику нужно было притвориться, что его не волнует, чего люди хотят. Это было довольно сложно сделать, поскольку любой художник стремится к общественному одобрению, как и вообще любое человеческое существо. Оскар Уайльд – известный тому пример. В своем эссе «Душа человека при социализме» он написал: «Произведение искусства есть уникальное воплощение уникального склада личности. Оно прекрасно потому, что его творец не изменяет себе. Оно совершенно независимо от помыслов окружающих, каковы бы эти помыслы ни были. И в самом деле, лишь только художник начинает учитывать помыслы других людей и пытается воплотить чужие требования, он перестает быть художником и становится заурядным или ярким умельцем, честным или нерадивым ремесленником». Естественно, Уайльд хорошо знал, чего хотят люди и как это им дать. Он использовал свои эссе, чтобы утаить эту свою способность.
Во второй половине двадцатого века здание аристократической культуры рухнуло. Это произошло мгновенно, подобно землетрясению, когда Энди Уорхол выставил свои рисунки суповых консервов и банок кока-колы в галерее «Стейбл» в 1962 году. Но в то же время это был и очень медленный процесс, потому что в двадцатом веке глубокие структурные проблемы высокой культуры подчеркивались уже одним только разнообразием и изобретательностью культуры коммерческой. Критики, кураторы и редакторы мужественно боролись за сохранение границы между высоким искусством и поп-культурой, между ручной работой и конвейерным производством, между уникальным и многократно повторенным. Эти культурные арбитры воевали с рестлерами, дивами мыльных опер и ведущими ток-шоу, стремясь сохранить какой-то смысл в традиционном разделении на старую элитарную культуру и новую коммерческую культуру. Последним оплотом нью-йоркских интеллектуалов в войне за старую культуру была самоирония, но и она оказалась лишь временной мерой. Ее тоже скоро смели и раздавили поп-культурные орды.
По мере того как границы между элитарной культурой и коммерческой размывались, сами слова «коммерческий» и «продаться» стали пустым звуком. Вопросы старых культурных арбитров вроде «Хорошо ли это?» и «Искусство ли это?» были заменены вопросом «Чье это искусство?». Выбор «лучшего, что существует в мире», говоря словами Арнольда, – то, что раньше было привилегией, долгом и моральной работой культурных арбитров, – превратился в нечто аморальное, в попытку элиты навязать массам весьма скудный набор интересов. Целое поколение культурных арбитров, чей авторитет в той или иной степени зависел от сохранявшегося разделения на элитарную и коммерческую культуру, было постепенно вытеснено, и его место заняло новое поколение, умевшее адаптировать любой контент к той или иной демографической или «психографической» нише. Произошел трудноуловимый, но имеющий огромное значение переход власти от индивидуальных вкусов к авторитету рынка.
К девяностым годам идея, что высокая культура является некоей высшей реальностью, а люди, которые ее создают, – высшими существами, была отправлена на помойку. Старое значение слова «культура» – нечто ортодоксальное, доминирующее и возвышенное – уступило место антропологическому, в духе Леви-Стросса, значению: характерная деятельность любой группы людей. Работники MTV говорили о культуре электронной почты, о культуре спора и о культуре курьеров-мотоциклистов. Там была возможна культура в чисто немецком ее понимании без малейшей примеси французского смысла этого слова. Можно было, например, глубоко увязнуть в культуре гангста-рэпа, не имея при этом ничего общего с ценностями цивилизованного мира.
Интересно, пользовались бы успехом на MTV Колридж и Вордсворт? Действительно, существовал «плохой» рынок, который якобы устанавливал для художников «цензуру». Но уже существовала и постоянно растущая сеть небольших «нишевых» рынков, позволявших художникам зарабатывать себе на жизнь, и это было хорошо, по крайней мере, для искусства, если не для самих художников. Если мейнстрим стал более однородным, то на краю его появилось гораздо больше разновидностей культурного продукта. Существовали окраинные театры, одноактные пьесы, интересные самиздатовские журналы, музыкальные группы, разрушавшие жанровые границы, короткометражные фильмы, не попадавшие ни в одну категорию, рэперы со своим стилем и правдивыми историями. В многозальных кинотеатрах вместе с блокбастерами шли независимые фильмы, кабельные каналы транслировали резкие британские пьесы, появлялись интернет-сайты, на них часами можно было читать стихи, которые ни один издатель не напечатал бы. Тот, кто не без оснований говорил, что рынок подавляет авангардных художников, по определению не рассчитывавших на массовую популярность, имел все возможности поддержать художников, работавших за пределами мейнстрима. Но в последнее время благодаря таким каналам, как MTV, границы мейнстрима существенно раздвинулись, дав возможность войти в него авангардным художникам, и ситуация изменилась. По мере того как мультимедийные и интернет-технологии продолжали сокращать дистанцию между художником и его потенциальной аудиторией, бывший когда-то актуальным тезис о защите художника от вероломного рынка мейнстрима потерял всякий смысл («каркнул Ворон»). Массовый рынок, бывший когда-то врагом художника, начал приобретать некую целостность, став подлинно народным выражением предпочтений аудитории. В ми ре относительных вкусов популярный хит обладал тем, чем идеалы качества не обладали. Здесь можно было спорить, «хорошо» ли это (хорошо для кого?), но спорить с Soundscan или Amazon.com бессмысленно.
Технология изменила саму природу авторства. Упростившийся доступ автора к разнообразной информации на интересующую его тему сделал более вероятной ситуацию, когда он мог пользоваться чужими идеями или, по крайней мере, смешивать свои идеи с чужими. В интернете, где любой текст можно наполнить гипертекстовыми ссылками на других авторов, отказ от физической раздельности текстов изменил традиционное понимание авторства. В мире музыки семплирование – смешивание собственных звуков с чужими или «процитированными» – стало таким же допустимым способом создания произведений, как и традиционный метод собственного сочинительства. Джеймс Шеймас, сценарист и продюсер независимого кино, следящий за изменениями культурного ландшафта, сказал мне, что, по его мнению, происходящие изменения – не усиление корпоративного контроля над художником, а пересмотр понятий о том, кто же такой художник. Он считает, что создается новый тип художника, который, вместо того чтобы быть самостоятельным, будет выполнять заказы маркетологов и менеджеров, применяя творческий подход – объединять различные художественные потоки. «Границы понятия “авторство” очень сильно раздвинулись, – сказал Шеймас. – Автор – это владелец произведения, тот, кто платит художникам за их время, потраченное на работу. Вот настоящий автор».
Наконец, идея, что художник – это уникальное существо, тоже устарела, так как ряды художников постоянно пополнялись. Бизнесом Америки стало искусство. В последние годы в стране появилось больше художников, поэтов, музыкантов, актеров, танцоров и писателей, чем когда-либо раньше. Практически все люди до двадцати пяти лет, кого я встретил на MTV, были в той или иной мере художниками. Молодые люди, которым раньше не светило ничего, кроме скучной работы в офисе, теперь становились рок-звездами, авторами перформансов и режиссерами видеоклипов. Поверить в уникальность любого парня с гитарой и необычной прической уже было невозможно. Современный художник стал парадигмой процесса раскрытия в себе творческих способностей для всех жителей планеты.
* * *
Однажды высокий парень по имени Фаб Файв Фредди, хип-хоп импрессарио, появился из мрака мюзик-холла «Радио-Сити», уселся в кресло позади Джуди Макграт, президента MTV, и начал объяснять ей идею телепередачи о жизни чернокожих заключенных. Фаб Файв Фредди принадлежал к старой школе хип-хопа и присутствовал при рождении таких рэп-групп из Бронкса, как Sugar Hill Gang. В начале восьмидесятых он помог местным художникам граффити стать модными в центре города. Поэтому Макграт слушала его с интересом. Вокруг них в огромном темном зале сидела молодежь с MTV. Ассистенты режиссеров разговаривали по рациям с другими ассистентами, находившимися где-то в глубинах «Радио-Сити». Все купались в лучах телемониторов и экранов ноутбуков, установленных в центре одного из пустых рядов сидений, рядов за двадцать от сцены.
Макграт (произносится «мк-граат») позволила своей челке упасть на глаза и глядела из-под нее на собеседника, как в те моменты, когда она что-то обдумывала. Она задумчиво провела рукой по лицу. Макграт была очень спокойна – это ее стиль ведения бизнеса.
– Это история с моралью? – спросила она Фредди.
– Ну, вы понимаете, у черных сложная жизнь… – начал он, но его прервал сокрушительный рэп Снупи Дога, известного гангста-рэпера. Он репетировал перед выступлением на готовящейся церемонии вручения наград MTV.
Вначале гангста-рэп был более политизированным. Когда молодой чернокожий парень Айс Кьюб из группы N.W.A атаковал полицию песней Fuck thе Police, это было мощным политическим заявлением, поднявшимся над уровнем стиля:
В жопу полицию, говорю из андеграунда Я – преступник потому, что я ниггер, Потому что у меня такой цвет кожи. У полиции есть право давить меньшинства, В жопу этот бред, я не бандер. А этот урод с дубинкой и пушкой Бьет меня и бросает в тюрягу, И я сижу, закованный, в клетке. Он пристал ко мне потому, что я пацан С пейджером и золотыми кольцами. Он обыскивает тачку, ищет товар, Думает, что каждый ниггер толкает наркоту.Но политика была выхолощена боссами звукозаписывающих компаний, сделавших гангста-рэп мейнстримом. Гангста стал бальзамом на душу для людей вроде меня – тех, кому постоянно требовалась доза социальной реальности в форме поп-музыки. (После убийств Тупака Шакура и Бигги Смоллза понятие подлинности в поп-музыке расширилось до таких пределов, что вобрало в себя и настоящую смерть певца.) Успешных гангста-рэперов часто презрительно называли «студийными гангста» в отличие от «настоящих» гангста, которые входили в криминальные группировки, на самом деле живя той жизнью убийц и грабителей, о которой они рассказывали в своих песнях. (Дебаты о том, кто же был самым первым гангста-рэпером, напоминают вопрос Дунса Скота о том, сколько ангелов может поместиться на булавочной головке. По мнению лос-анджелесского журналиста Боба Бейкера, первым настоящим гангста-рэпером был ученик школы Фремонт по имени Рэймонд Вашингтон, вдохновленный «Черными пантерами».) Но каждый гангста-рэпер был в той или иной степени «студийным гангста», потому что белых слушателей вроде меня, сделавших рэперов популярными, привлекала именно эта «неаутентичная аутентичность».
К середине девяностых материализм, вседозволенность, тупое женоненавистничество и насилие черных против черных стали основными темами жанра. Мессиджем была уже не надежда или ярость, а «Кому не насрать?». Снуп был поэтом как раз этого направления. Его альбом Dog ys yle, продюсированный Доктором Дре, был продан в количестве четырех миллионов экземпляров, сделав убийственный стиль и поэтические приемы Снупа составной частью идентичности белых тинейджеров по всей стране.
Макграт переключила свое внимание на репетицию Снупа. На сцене над открытым гробом висело огромное распятие, а танцоры, одетые как плакальщики, двигались на его фоне, изображая горе и отчаяние.
– Сколько же дерьма на меня выльют за это распятие, – сказала Макграт, ни к кому конкретно не обращаясь.
Снуп находился за сценой, но его голос был слышен, словно он вещал из гроба. Он спел первый куплет песни «Это было убийство». Герой песни смертельно ранен выстрелом из проезжав шей машины, но на пути в ад ему удается заключить сделку с дьяволом, и он получает вечную жизнь, чтобы «курить траву и никогда ничего не хотеть».
Фредди наклонился к уху Макграт и прошептал: «Парень, которого обвиняли в убийстве, сам поет про убийство. Очень интересно». В 1993 году в Лос-Анджелесе выстрелом из машины, за рулем которой сидел Снуп, был убит его знакомый двадцатилетний парень. Снупа обвиняли в убийстве, но он был оправдан. Неизвестно, пытался ли Снуп в этой песне выразить угрызения совести по поводу того инцидента или, напротив, смеялся над моралистами, которые думали, что он должен испытывать угрызения.
Сам Снуп появился на сцене в инвалидной коляске с микрофоном в руке. Его глаза блестели, он скромно наклонил голову и начал говорить свой рэп одним уголком рта в шелковисто-гладком стиле Северной Каролины. Он встал с инвалидного кресла, и разные части его худого, гибкого тела превратились в маленькие водовороты. Перед тем как покинуть сцену в конце песни, он сымпровизировал в стиле «скат»: «Я невиновен, я невиновен или, может, я виноват».
Макграт кивнула, ничего не сказав. Снуп задал культурным арбитрам вроде нее интересную задачу, по крайней мере с точки зрения традиционной культуры. Имея огромное влияние на молодежь, MTV являлся в определенной степени учителем и воспитателем, и в последнее время воспринимал эту роль все более и более серьезно. У MTV подростки учились терпимости, справедливости, ответственному сексу и честной игре. Или, по крайней мере, они могли всему этому научиться, если бы захотели. Но то, о чем пел Снуп, не имело ничего общего с этими ценностями. Он защищал более или менее частое употребление «бубоник-хроник» (сильная марихуана) и джина, воровство и сутенерство, секс со шлюхами при любой возможности. Как он заметил в песне Doggyystyle: «Кайфа нет, когда парням некого трахнуть». Получалось, что, если кто-то мешает получать кайф таким способом, ты имеешь полное право надрать этому ниггеру задницу. С точки зрения традиционных ценностей – а возраст Макграт, как и мой, позволял помнить их – такие заявления не могли понравиться культурным арбитрам. Моральный авторитет старых культурных арбитров как раз и использовался для того, чтобы защитить детей от типов вроде Ди Оу Дабл Джи. Но в девяностые годы, когда производители культурного продукта – Time Warner, Polygram и Viacom (владелец MTV) – зарабатывали деньги на гангста-рэпе, ставшем своего рода спасителем музыкальной индустрии, система ценностей культурных арбитров стала более сложной. Несмотря на эпизодические протесты акционеров Time Warner, ценности гангста-рэпа почти идеально вписались в корпоративную систему ценностей, в которой прибыль была важнее всего остального. В середине девяностых рэп, а в особенности гангста-рэп, спас музыкальную индустрию от стагнации, вызванной падением продаж рок-музыки. К 1998 году, когда было продано более 81 миллиона хип-хоп-альбомов, 70 процентов из которых были куплены белыми слушателями, жанр обошел кантри и стал самой продаваемой категорией поп-музыки.
MTV пережил трудный период в середине и конце восьмидесятых, когда «волосатые» хеви-металлисты и скучные видеоклипы девчачьих групп оттолкнули многих зрителей, включая меня. Но потом пришел хип-хоп. Как и MTV, он не был привязан к системе разделений между идеализмом и коммерческими импульсами в искусстве. В хип-хопе, как и на MTV, политика индивидуальности счастливо уживалась с поэтикой потребления. Идеологи рока все еще преклонялись перед идеей романтического противостояния искусства рынку, и поэтому рок не вписался в систему ценностей MTV столь безболезненно. В роке существовала граница между музыкой, сделанной по каким-то идеалистическим причинам, и музыкой, сделанной ради денег. Рок-песня могла использоваться в рекламе, но перед этим должно было пройти какое-то время, и, став фоном для рекламы, рок-песня теряла часть своей ценности как произведение искусства. Но в хип-хопе песня могла одновременно быть и рекламой, и поп-хитом. Одежда, используемая в клипах, могла поставляться крупными компаниями, но не обязательно. В лучших рифмах часто звучали названия брендов, и поэтому хип-хоп так плавно вошел в коммерцию. Хит Паффа Дэдди It’s All About the Benjamins соединил в себе коммерцию, рекламу, хвастовство своими заработками и искусство. В лос-анджелесском гангста-рэпе одним из критериев серьезности артиста было то, насколько важны для него были деньги, а не искусство. Поэтому Изи И из N.W.A. мог похвастаться: «Мы выпускаем альбомы не ради удовольствия, мы делаем это ради денег».
Том Фрестон – глава MTV Networks и босс Мак грат – высказал сомнения по поводу участия Снупа в церемонии награждения MTV, считая, что он не слишком хороший парень. Но Макграт поддержала Снупа, потому что, как она рассказала мне, «в музыкальном смысле Снуп – событие. И мы обязаны показать его нашим зрителям. Нас пугает, что музыка движется в таком направлении, но мы не можем это контролировать. И если бы мы попытались это контролировать, мы потеряли бы наши преимущества, за которые нас любят. Кроме того, показывать такую музыку имеет смысл, потому что она настоящая. Я уверена, если бы сейчас был 68-й год и мы показали бы Хендрикса, то многие тоже возмущались бы. Это же и есть мир, в котором мы живем… И я не хочу применять к Снупу какие-то более высокие стандарты».
После концерта она сказала:
– С музыкой спорить бессмысленно.
И это действительно так. Музыка трансформировала брутальность – почти. Те, кто придумал гангста-рэп, обнаружили в поп-культуре мейнстрима, особенно в таких фильмах, как «Крестный отец», «Хорошие парни» и «Лицо со шрамом», язык, на котором можно было говорить об ужасающей де градации и насилии в бедных кварталах Лос-Анджелеса. Но при этом им удалось соединить брутальность с миролюбивым и покладистым настроением, составлявшим сущность поп-музыки. Гангста-рэперы великолепно перевели темы мейнстрима на язык, которым можно было рассказать о том, что происходило в их субкультуре, – о том, о чем по-другому нельзя было говорить вообще.
Я спросил Макграт о ее отношении к Снупу.
– Я белая женщина, и мне сорок один год, – сказала она, улыбаясь. – Какое, по вашему, у меня может быть отношение к Снупу? – Она наклонилась вперед и спросила Дуга Херцога, тогдашнего программного директора: – Ты не боишься, что наш имидж могут начать ассоциировать с имиджем Снупа?
– Имидж – это все, – иронически заметил Херцог.
– Не уверена, – произнесла Макграт, снова откидываясь в кресле, – я не до такой степени озабочена имиджем.
Режиссер номера Снупа приблизился к бригаде MTV, и его тут же перехватил Трейси Джордон, продюсер, используемый Макграт для связи с миром рэпа. Трейси спросил:
– Надеюсь, Снуп не будет употреблять в песне слова «хроник», «ниггер» или «дурь», как он только что делал?
– Нет, этих слов не будет, – ответил режиссер. – Не волнуйтесь насчет этого. Просто ему трудно избежать этих слов, вы понимаете, о чем я говорю. Но Снуп знает, что это не в его интересах.
– И для этого вот я училась в католической школе, – сказала Макграт.
Когда репетиция закончилась, Макграт спросила Трейси, может ли она подойти и познакомиться со Снупом. Она напустила на себя тот безразличный вид, с которым люди обычно знакомятся с артистами, прошла по проходу и обнаружила Снупа за сценой с музыкантами его группы Dog Pound. «Крутизна» тусовки Снупа заметно отличалась от «крутизны» на MTV. «Крутизна» MTV была в том, чтобы просто тусоваться – смотреть и реагировать на то, что происходит вокруг тебя, поглощая энергию и не давая ничего взамен. «Крутизна» тусовки Снупа исходила откуда-то изнутри.
Трейси сказал:
– Снуп, я хочу тебе представить Джуди Макграт, президента MTV.
Кто-то из музыкантов сказал:
– Ага, прикиньте, президент MTV. Это неслабо.
Снуп выпрямился во все свои сто девяносто сантиметров, подал Макграт руку и сказал:
– Ну, я, короче, хочу поблагодарить вас, что вы крутите наши клипы и поддерживаете меня и что пригласили меня на этот концерт, и я хочу поблагодарить за то, что вы поддерживаете хип-хоп… ну, вы понимаете, о чем я говорю. – Он провел рукой в воздухе. – Короче, это типа все, – сказал он и тихо добавил: – Буммммм.
Когда мы спускались со сцены, Макграт заметила Кэрол Робинсон, начальника пресс-службы MTV, и сказала ей:
– Послушай, мы познакомились со Снупом.
– Ну и как? – испуганно спросила Робинсон.
– Он благодарил меня, – ответила Макграт с удивлением.
Она повернулась к Трейси:
– Ты никогда мне не говорил, что он такой милый. Три босса MTV – Джуди Макграт, Сара Левинсон и Том Фрестон – были слишком стары, чтобы доверять собственным инстинктам в деле формирования вкусов ноубрау. Решая, что показывать на MTV, они больше полагались на интуицию и маркетинговые исследования, чем на собственный опыт. «Золотой инстинкт», который вел старых культурных арбитров, должен был дополняться, а в некоторых случаях и заменяться точным расчетом и ориентацией на существующую моду. Дуг Херцог, восходящая звезда телевидения, который позже руководил каналом Comedy Central, а затем стал программным директором на канале Fox, сказал мне, что специально не полагается на свои вкусы, определяя, что ставить в эфир: «Я могу сказать: да, мне это нравится. Но я – не часть “демо”. “Демо” – это возрастная группа, на которую нацелены передачи, от пятнадцати до двадцати четырех лет, хотя она и расширяется в последнее время, подобно зоне удара в бейсболе. Если мне что-то понравилось, – продолжал Херцог, – то это скорее тревожный сигнал».
Таким образом, сотрудники MTV, попадающие в «демо», составляли своего рода внутреннюю фокус-группу, за которой наблюдали боссы канала. В основном это были студенты-практиканты и ассистенты, которые не зарабатывали ничего или почти ничего (никому из практикантов не платили, а условия их работы Фрестон описал как «чуть лучше, чем до начала индустриальной революции»). Они ютились в каморках и кабинетах без окон на двадцать четвертом этаже здания Viacom на Бродвее. Многие из них лишь недавно приехали в Нью-Йорк. В дополнение к возможностям карьерного роста в кино и на телевидении MTV мгновенно обеспечивал практикантов соседями по квартире, знакомствами, интересными друзьями, вечеринками и бесплатными билетами на концерты, что делало их объектом зависти всех знакомых. Хотя практиканты, как правило, делали черную работу – вытаскивали видеокассеты из ящиков в главном коридоре, заказывали обеды для продюсеров или выносили за ними мусор, – они делали все это с радостным и ироническим энтузиазмом. Однажды я услышал, как один из них сказал: «Конечно, приятель. Я сейчас же разложу эти карточки по алфавиту, это прекрасная идея», словно он был Дином Мориарти из книги Джека Керуака «В дороге». Виджеи – ведущие, которые объявляют клипы, – должны были, по логике, являться звездами демо-публики, но на самом деле отношение к ним было довольно прохладным, и они редко появлялись на двадцать четвертом этаже.
Стены перегородок, за которыми работали ребята из демо-группы, были заклеены рок-н-ролльными постерами. Повсюду звучала музыка, и, если кому-то нравилась та или иная песня, нормальным считалось включить ее на полную громкость. Просить сослуживцев сделать музыку потише считалось нарушением этикета. «Сначала ты закрываешь свою дверь, – объяснил мне журналист Джефф Уилан. – Потом ты просишь их закрыть свою дверь. Но никогда не проси их сделать музыку потише». Иногда двое нагруженных кассетами демо-ребят встречались в коридоре, и один начинал приплясывать, двигая головой, плечами и губами, а другой присоединялся к этому ритуальному танцу. Когда они затем расходились в разные стороны, один мог сказать: «Обожаю эту песню». И они еще некоторое время двигались пританцовывая.
После демо-группы можно было стать помощником продюсера, а потом, пока ощущение демо еще свежо, и полноценным продюсером. Двадцать четыре-двадцать пять – это был лучший возраст для MTV. Тед Демми, который начал делать программу Yo! MTV Raps – ключевую в процессе сближения телеканала с хип-хопом, – прошел классический путь. Он впервые попал на канал практикантом, после колледжа получил должность младшего продюсера, а к двадцати четырем годам был уже продюсером. «Если ты продюсер, то делаешь всего понемногу, – сказал он мне. – Юмор, хит-парад, промо-видео, церемония награждения. Мне в голову пришла идея сделать передачу про рэп, я снял пилотный выпуск, его выпустили в эфир, рейтинги были отличные, и через две недели она уже выходила по часу ежедневно. Это было все равно что идти в строю: левой-правой, левой-правой. MTV действительно открыл для меня целый мир. Где еще ты сможешь достичь такой высоты в двадцать пять лет? На твоей визитной карточке написано: «Продюсер», ты общаешься с боссами лейблов, со звездами и делаешь то, что ты хочешь!». Демми ушел с MTV в двадцать восемь, чтобы стать кинорежиссером, и среди его работ «Осторожно, заложник!» с Денисом Лири, «Кто этот человек?» с Доктором Дре и Эдом Ловером и «Красивые девушки». Но он скучает по MTV и, подобно игроку школьной футбольной команды, который приходит на матчи после выпуска, часто появляется на двадцать четвертом этаже.
Когда возраст сотрудника MTV приближается к тридцати, он в отличие от работающих в любой другой отрасли начинает волноваться за свою дальнейшую карьеру. В том возрасте, когда люди в других компаниях лишь начинают получать настоящие задания, на MTV они чувствуют, что им пора уходить, освобождая место тем, кто по возрасту более близок к аудитории канала. Том Фрестон сказал мне, что сейчас средний возраст сотрудника MTV – двадцать девять лет, на четыре года больше, чем в 1981 году, когда телеканал появился, и что средний возраст растет со скоростью шесть месяцев в год. Один из продюсеров заметил по этому поводу: «Это как в “Бегстве Логана” – каждый, кому исполняется тридцать, исчезает».
Для тех, кто прошел путь от практиканта до продюсера и «кто не знает, что в реальном мире все по-другому», по словам одного журналиста, перспектива работы на другом телеканале или в рекламном агентстве не слишком привлекательна. Гленн Риббл, который пришел на MTV практикантом и ушел с поста старшего продюсера в двадцать пять, чтобы стать независимым режиссером видеоклипов и рекламных роликов, сказал мне: «Здесь все по-другому. Мне дают сценарий, сделанный другими людьми, и говорят: “Вот то, что мы хотим. Иди и сними это”. А на MTV я мог делать все сам». Позже он вернулся на MTV.
В том возрасте, когда люди начинают одеваться более консервативно, работники MTV наоборот приобретали более радикальный стиль одежды, наполняли свои офисы еще большим количеством рок-н-ролльных сувениров и начинали разговаривать как идиотские герои передачи «Бивис и Баттхед», одной из самых популярных на канале. Как-то раз один двадцативосьмилетний журналист сказал мне: «Иногда ты видишь, как молодой парень приплясывает в коридоре под какую-то мелодию, а тебе этого делать не хочется. Ты занят, ты устал, у тебя много работы… да что угодно. А этот парень говорит: “Давай!”, как если бы иначе было просто нельзя. Вот тогда ты понимаешь, что уже слишком стар для MTV».
* * *
Другой журналист MTV как-то сказал мне: «Джуди Макграт была бы сердцем MTV, если бы у него было сердце». Макграт выросла в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и у нее еще сохранился едва заметный местный акцент, хотя манера говорить стала спокойной и осознанной, приобретя некоторый манхэттенский лоск. В детстве Джуди любила вставать на стул, изображая дирижера Леонарда Бернстайна. Она провела большую часть своей юности в Сидар-Крест, женском колледже в Оллентауне, изучая английский язык и литературу и мечтая о журналистской карьере в «Роллинг Стоун». Она некоторое время руководила корпусом рерайтеров в Mademoiselle, потом писала статьи для Glamour, а вскоре после первого выхода MTV в эфир начала работать на канале. Ее самыми первыми идеями были шоу «Дево едет на Гавайи» и «Выиграй ночь с Пэт Бенатар». В 1987 году она стала директором отдела специальных программ, а в 1991-м – креативным директором канала. В 1994 году Макграт сделали президентом MTV, в результате чего и творческая, и финансовая деятельность канала оказалась под ее контролем.
Я провел с Макграт полдня, сопровождая ее на всех встречах. Возвращаясь с обеда, она столкнулась в лифте с Гленном Рибблом, старшим продюсером. Он держал в руках большие старые часы, купленные за один доллар у какого-то парня на Принс-стрит, решив, что их можно использовать в промо-видео. Кроме него, в лифте были двое практикантов, они, разговаривая о певице Лизе Лоуб, выпускнице университета Браун, назвали ее полным отстоем. Один из практикантов пошутил, что снимет видео, в котором будет ходить по своей квартире и честно говорить в камеру о своих любовных проблемах, как это сделала Лоуб в своем клипе «Оставайся». Макграт слушала беседу спокойно, с некоторым испугом, а когда мы вышли из лифта, сказала мне, что все же надеется, что ее теория о том, что Лоуб – представительница зарождающегося жанра «рок для придурков», окажется верной.
Подходя к своему офису, она обогнала Нэнси Клэйтон, начальника отдела контактов с аудиторией, которая слушала некоторые из более чем сотни ежедневных посланий, оставленных зрителями на автоответчике MTV:
«Привет, MTV! Когда у тебя день рождения?»
emp1
«MTV входит в наш семейный пакет кабельных программ, и вчера мы посмотрели пять минут передачи “Бивис и Баттхед”, в которой они уничтожали настенную живопись. Бивис и Баттхед учат детей совершать подобные акты вандализма. Мне придется заплатить дополнительные деньги и купить специальное оборудование, чтобы убрать MTV из нашего телевизора».
emp1
«По-моему, передача “120 минут” – говно».
emp1
«Привет, MTV! Мне шестнадцать лет, и мне придется быть дома все лето, это так скучно, и я хочу сказать, что это нечестно, что на практику на MTV берут только с восемнадцати лет, потому что основные зрители – подростки».
Мы зашли в офис и сели перед телевизором, так мы сидели всегда, когда я разговаривал с Макграт. Практически все сотрудники MTV, от боссов до мальчиков на побегушках, могли в течение дня смотреть передачи со своего стола. Трудно было найти в офисе компании такое место, где не был бы установлен телемонитор. Младшие сотрудники часто работали с включенным звуком, потому что начальство требовало от них, чтобы они вбирали в себя как можно больше языка и ощущения MTV. (Журналист, которого интервьюировали на должность в одной из игровых программ MTV, рассказал мне, что ему задали вопрос: «Знаете ли вы, что означает phat?» – «Да, это означает cool». – «А fly?» – «Это cool». И так далее.) Сотрудники постарше смотрели канал без звука, потребляя его в самом чистом виде: избавившись от музыки, которая MTV не принадлежала, они видели только картинку, вернее, процесс слияния изображений, видеоклипов и рекламы в правильный программный коктейль, принадлежавший MTV.
Чтобы работать на MTV, нужно суметь натренировать собственные глаза – которые естественным образом притягивали пестрые цвета и резкие движения – и научиться не смотреть все время на мониторы. Нужно, чтобы глаза воспринимали изображение так же, как уши воспринимают звук – как некую среду. MTV был своего рода визуальным радио. Для детей, чье детство пришлось на семидесятые и восьмидесятые, он был естественной средой, потому что они росли при почти все время включенном телевизоре, а потому Брейдиз, Фонз и Мистер Коттер воспринимались ими почти так же, как люди, которых они знали в реальной жизни. Но среда MTV оказалась на удивление сложна для восприятия людей, выросших в пятидесятые и шестидесятые, возможно, потому, что, когда на экране появлялись Дик Ван Дайк или Эд Салливан, вы садились у телевизора с чувством, что обращаются непосредственно к вам.
Я адаптировался к MTV с переменным успехом. Хоть я и входил в целевую группу канала, когда он появился, и смотрел его довольно много, MTV не соответствовал моей индивидуальности, отличая меня от тех, кто родился на десять лет позже. Начав свои передвижения до MTV и обратно по Сорок третьей улице, я понял, что, хоть и пытаюсь воспринимать MTV как нечто существующее физически, меня часто отвлекал имидж канала, появляющийся на экране. Возвращаясь с «фабрики грез» в редакцию «Нью-Йоркера», я ловил себя на том, что помню вещи, которые видел по MTV – стилизованные жесты уличных банд, которые делают рэперы, пупок Джанет Джексон, танец исландской певицы Бьорк в кузове грузовика, – лучше, чем то, что видел на MTV. Порой, выйдя на улицу и шагая по Тайм-сквер ближе к вечеру, после трех или четырех часов, проведенных на музыкальном канале, меня охватывало странное состояние: я не понимал, существуют ли в реальности молодые люди, которых я вижу на улице, или я вижу их на экране телевизора.
На экране в кабинете Макграт начался новый клип Трента Резнора и группы Nine Inch Nails, и мы смотрели его вместе.
Я хочу трахнуть тебя, как животное, Я хочу почувствовать твое нутро.Визуальный ряд был сюрреалистическим, но, вместо того чтобы, подобно картинам великих сюрреалистов Магритта, Дали и Де Кирико, вышвырнуть буржуазного зрителя из его ограниченной тихой реальности, видеоклип вызывал лишь тупое изумление, знакомое каждому, кто смотрел MTV более получаса.
Когда клип закончился, Макграт сказала: «Знаете, мне иногда кажется, что творческую часть моей работы должен выполнять двадцатилетний. Почему я делаю это? Что я знаю о двадцатилетних?».
Изнутри на двери кабинета Макграт висела ее фотография с Боно, оттиски фотографий R.E.M. и «Нирваны», в одном углу – постер группы Melvins, в другом – Элвис с гитарой, украшенной фальшивыми бриллиантами. Из окна открывался великолепный вид на нижнюю часть Манхэттена, Гудзон и северо-восточную часть Нью-Джерси, но главным в ее кабинете все же был телевизионный экран, и, находясь здесь, я всегда старался сесть так, чтобы я, Макграт и телеэкран правильно располагались относительно друг друга. На одной из наших первых встреч я допустил ошибку, сев напротив Макграт за ее круглый стеклянный стол, что дало мне возможность смотреть ей прямо в глаза. При этом телеэкран оказался у меня за спиной. В результате Макграт все время смотрела на экран, а мне приходилось смотреть ей через плечо и в окно – на два из четырех циферблатов больших часов здания Paramount на Сорок четвертой улице. Во время беседы я заметил, что мое тело инстинктивно отворачивается от Макграт к экрану, и, в конце концов, мы сидели, расположившись треугольником, что знакомо всем, кто когда-либо смотрел MTV в компании своих друзей.
– Думаю, моя задача – сконцентрироваться на концепции, – сказала Макграт, глядя на экран. – Насколько эта концепция глобальна? Чем мы отличаемся от других телеканалов? Тем, что мы – молодежный канал? В чем наша концепция? Время от времени я говорю, что мы должны заняться глобальной стратегией, и все в компании плюются – и правильно делают. Они очень искренние, и следовать их совету – в моих интересах. Иногда я демонстрирую свое лидерство, напоминая им о скрытых принципах того, что они делают, о том, как можно использовать музыку для решения социальных проблем. Думаю, это у меня выходит лучше всего. Мое дело – постоянно напоминать им, что их работа чего-то стоит, что это не просто съемки клипов для хит-парада. Природа MTV такова, что в ней присутствует элемент анархии, люди иногда понимают это слишком буквально, и мне приходится говорить, что это уже через край, и они возмущаются. Но они знают, что я работаю на MTV с самого начала, и я люблю MTV, и они мне доверяют».
Сейчас на экране шли гангста-клипы. Я учился включать клипы в разговор. Телеэкран был своего рода каналом, по которому проходил диалог, подстегивая его, когда он замедлялся. Переключаться с разговора друг с другом на разговор о клипах на экране было так же легко, как использовать функцию возврата к последнему включенному перед этим каналу на пульте управления телевизором. Мы смотрели серию клипов Снупа и Доктора Дре, потом Бек пел песню Loser, прыгая вокруг костра со звериной маской на лице.
Макграт продолжала: «Те, кто здесь работает, скажут вам, что MTV – это как “Маленький принц”: здесь никто не хочет становиться взрослым. И это действительно так. Меня все еще волнует, кто станет следующей “Нирваной”. И я не знаю почему. Я все еще пытаюсь понять, что значат те чувства, которые я получаю от этой музыки. Что говорят молодые? О чем они думают? Я хочу все это знать. – Она на мгновенье задумалась. – Думаю, это шанс оставаться вечно молодым. MTV позволяет это сделать. Понимаете, я плачу по моим счетам, делаю ежемесячные выплаты по кредиту за квартиру, хожу на серьезные вечеринки, но здесь я такая, какой была в колледже».
* * *
И Макграт, и Сара Левинсон, директор по маркетингу, и Том Фрестон излучали какую-то юношескую свежесть, которая могла сохраниться, по крайней мере, до пятидесяти лет. Они были успешными менеджерами, у них были браки, дети, разводы, но при этом они оставались ироничными, жадными до развлечений бунтарями. Они «получали кайф». Как написал в «Нью-Йоркере» Курт Андерсон, люди этого поколения часто говорили о своей работе как об «удовольствии», тогда как для их родителей главным была «работа».
Но однажды, когда я находился на MTV, сюда проникла настоящая взрослая жизнь. Сара Левинсон объявила о своем уходе. После двенадцати лет работы с Джуди и десяти с Томом она перебиралась с Тайм-сквер на Парк-авеню – руководить компанией NFL Properties, маркетинговым и лицензионным отделом Национальной футбольной лиги (НФЛ). НФЛ, обеспокоенная статистикой, согласно которой дети все меньше и меньше смотрели американский футбол или играли в него, решила нанять маркетингового специалиста с MTV, чтобы «продавать» игру молодому поколению, в особенности самой важной и чувствительной к брендам целевой группе от восьми до двенадцати лет. Хотя, как заявляла НФЛ, идеология американского футбола все еще строилась на традиционных христианских ценностях физической культуры («в здоровом теле – здоровый дух» и т. п.), спектакль игры управлялся сейчас по тем же принципам, что и хип-хоп: индивидуальность выражалась через культурные предпочтения. На MTV Левинсон продвигала как раз то, что мой школьный тренер по футболу пытался вытравить из игроков, – дух бунтарства. MTV действительно помог превратить бунтарство и противостояние авторитетам в рыночный продукт. Футбол, когда я играл в него в середине семидесятых, был всем тем, чем не был рок-н-ролл: дисциплина вместо гедонизма, командный дух вместо индивидуализма (конфликт «спортсменов» и «рокеров» отлично показан в фильме «Ошеломлен и смущен»).
Но если американский футбол хотел сохранить свою позицию как вид спорта номер один в стране, ему нужно было адаптироваться к меняющимся ценностям. Вот тут-то и пришла Сара Левинсон. То, что она ничего не понимала в футболе, роли не играло. Пол Тальбю, член комиссии НФЛ, считал, что Левинсон поможет более активному маркетингу спорта («продукта», как называли игру новые хозяева НФЛ) в молодежной среде. «Идеология важнее любых количественных показателей, – сказал он мне. – Она должна быть более молодежной, более бунтарской». За последние двадцать лет под влиянием других форм развлечения ландшафт в мире спорта серьезно изменился. В то время как интерес к культуре – моде, фильмам, знаменитостям – вырос и стал напоминать существовавшую в прошлом преданность болельщика своей команде, интерес к спорту снизился, став в один ряд с другими культурными предпочтениями. Полем приложения интереса для современного городского ребенка могли стать с равным успехом футбольное поле, баскетбольная площадка, экран компьютера или перила в парке, по которым он съезжал на своем скейтборде. Видеоигры теперь давали детям те же ощущения динамики, скорости и силы, которые раньше они получали от профессионального футбола. На современном медийном поле соревновались уже не Джонни Юнитас против Барта Старра, а Бретт Фавр против Бэтмена. В конце девяностых уже имел смысл вопрос, заданный одним читателем, который прислал письмо в «Нью-Йорк Таймс»: «Если спорт больше не игра, а модный глобальный развлекательный продукт, то какой тогда смысл болеть за какую-либо команду?». Ответ состоял, разумеется, в том, что люди болеют за команды именно потому, что те являются модными развлекательными продуктами.
– Баскетбол – это то же самое, что MTV, только в спорте, – сказала мне Левинсон, когда мы говорили с ней о ее планах в НФЛ. – То, как по телевизору показывают баскетбол – с быстрым монтажом, музыкальными вставками, – похоже на MTV. Поэтому баскетбол привлекает молодых. Пойти на баскетбол – это то же самое, что попасть в видеоклип. Но мы должны соблюдать осторожность, чтобы не оттолкнуть более старших зрителей. – Левинсон добавила, что детям близки идеи бунтарства, а НФЛ не была бунтарской силой. – Нам нужно достучаться до детей, прежде чем бунтарство начнет проявляться в слишком громкой форме.
Левинсон предлагала превратить футбол в хип-хоп-видео. И в самом деле, у гангста-рэпа и хип-хопа было много общего с футболом, хотя понять это смог только маркетинговый гений с MTV. Последнее совещание руководящего триумвирата MTV состоялось в кабинете Фрестона. Макграт была в одежде из магазина редких моделей в стиле Грейс Силк – блестящая юбка из искусственного шелка, синяя блузка с большими костяными пуговицами и кожаные босоножки. Фрестон, красивый мужчина с соблазнительным блеском в уголках глаз, смотрел на мониторе клип Stone Temple Pilots, одновременно слушая новый альбом Брайана Ферри. Я заметил, что его стопка компакт-дисков, напоминающая конструктор Lego, была намного больше моей стопки компакт-дисков. «Вы слышали этот альбом? – спросил он меня. – Просто супер». Слева от него висел большой рисунок Бивиса и Баттхеда, а справа – большая фотография Рена и Стимпи.
Глядя в свои записи, Левинсон сказала, что ежедневный блок музыкальных передач MTV на два с половиной часа начнет выходить на хинди и английском в Индии, на канале DD2 Metro. Подобный блок на языке мандарин скоро должен появиться и в Китае. Эта экспансия должна была постепенно увеличить аудиторию MTV с 250 миллионов семей (почти в два раза больше, чем CNN) до более чем 500 миллионов.
– Мы начали просмотр кандидатов для ведущих в Индии и Китае, – сказала Левинсон, подняв глаза от своих записей. – Мне сказали, что индийский – очень даже ничего.
– Он – супер, – сказала Макграт.
Левинсон перешла к работе MTV в Японии, Европе, Латинской Америке и Бразилии, где были проблемы с получением доступа к спутнику.
– Ну, Бразилия – это десять миллионов семей, и мы хотим там присутствовать, – сказал Фрестон. – Кабельное телевидение – это навсегда.
– Можно процитировать твои слова? – спросила Макграт.
– Смотрите, вудстокский фургон, – сказал Фрестон, кивая на телеэкран. – Я хочу в нем переночевать.
Некоторое время все говорили о Вудстоке. Потом Фрестон повернулся к Левинсон.
– Значит, с Бразилией все понятно?
– Более или менее, – ответила Левинсон. – Да, еще Австралия.
Она сказала, что в Австралии можно использовать европейские или американские программы и не делать своих собственных.
– Не думаю, что это правильная стратегия, – сказал Фрестон. – В Австралии все хорошо все понимают про телевидение, и если мы так сделаем, то будем выглядеть смешно.
Левинсон сказала, что должна идти к себе в кабинет, чтобы по телефону узнать о состоянии своего сына, у него обнаружили ушную инфекцию.
– Значит, ты уходишь от нас в пятницу в полвторого? – спросил Фрестон. – И все?
– И все, – ответила Левинсон глядя в пол.
Макграт нервно, по-девчачьи заерзала на стуле, ее блестящая юбка приподнялась.
– Не могу поверить, – сказала она.
– Вообще, – произнес Фрестон иронически, – перемены – это к лучшему.
– Перемены – это к лучшему, – мрачно повторила Макграт.
Все трое несколько неуклюже остановились в дверях кабинета Фрестона. На столе секретарши Фрестона стояла небольшая корзина с цветами. Фрестон поднял ее и посмотрел на карточку.
– Это от Кулио, – сказал он.
Кулио, «умеренный» гангста-рэпер, был новой звездой MTV.
Фрестон передал цветы Левинсон.
– Сара, держи. Как знак нашей признательности.
* * *
Культура маркетинга, маркетинг культуры. В чем здесь различие? Раньше можно было сказать: «Вот это – культура, а это – маркетинг». По крайней мере, мне так кажется. Культура шла первой. Культурой был способ испечь яблочный пирог с крошкой, потому что так его пекла твоя бабушка. Потом шел маркетинг – рецепт бабушкиного яблочного пирога с крошкой от Марты Стюарт. Маркетинг пытался эксплуатировать культуру в коммерческих целях. Культура была спонтанным энтузиазмом, гением индивида или целого народа. Маркетинг пытался манипулировать этим гением – продавать культуру ее же носителям.
Но это разделение, казавшееся когда-то абсолютно жестким, рушилось повсюду, куда бы я ни бросил взгляд. На полках книжного магазина у моего дома можно было обнаружить книги с такими названиями: «Продажа невидимого: практическое руководство по современному маркетингу», «Уличная мода: как сегодняшняя альтернативная молодежная культура создает завтрашний массовый рынок» или «Хищный маркетинг: что должен знать каждый бизнесмен, чтобы завоевать клиента». На обложке последней книги испуганный кролик (видимо, имелся в виду клиент) дрожал от страха на обеденной тарелке. Этот новый маркетинг основывался на демографии. Когда-то демография означала лишь математическое изучение численности населения и методологию, позволявшую соотносить число новорожденных, количество браков и смертей. В процессе урбанизации демография была адаптирована для предсказания будущего роста населения, чтобы можно было определить, сколько строить дорог, аэропортов и проводить высокоскоростных кабельных сетей. Эти принципы были, в свою очередь, адаптированы маркетологами, придумавшими для потребительского общества псевдонауку «психографию», которая должна была помочь культурной индустрии принимать решения о моделях одежды, финальных сценах фильмов и о том, какие видеоклипы показывать. Демографические показатели, исследования рынка и статистика посещений интернет-сайтов вытесняли классовые, этнические и географические модели потребления. Принимая эти «тенденции», вы переставали существовать как единственный в своем роде и становились частью некоей демо, «поколения пепси» и т. п.
Чем больше времени я проводил на MTV, тем сильнее становилось мое подозрение, что грань между маркетингом и культурой, проводимая каждым конкретным человеком, определялась лишь его датой рождения. В этом и заключалось подлинное различие между поколениями – в какой степени невыразимое ощущение культуры рынка стало частью собственного мировоззрения под влиянием внешней культуры, а именно телевидения, начиная с самого раннего возраста (и даже со времени нахождения в утробе матери). MTV довольно эффектно прикрыл канал обратной связи между культурой и маркетингом, и уже невозможно было отличить одно от другого или определить, что из них первично, а что вторично. И теперь MTV формировал новую аудиторию, для которой разницы между рынком и культурой практически не существовало.
Даже высокоинтеллектуальные деятели поп-культуры, например, сценарист и режиссер Майкл Толкин, были удивлены, как мало уважения к существующим поп-канонам проявляют начинающие кинематографисты. Он рассказал мне, что однажды читал в киношколе лекцию, в которой упомянул Джимми Кагни, и был шокирован, что практически никто из аудитории не знал, кто это такой. «Те, кто младше тридцати, в большинстве своем не помнят историю искусства или что-либо еще, что старше пятнадцати лет, – сказал он. – Это поколение, выросшее на кабельном телевидении и новых фильмах, кормили культурой, которая была в большей степени ориентирована на рынок, чем культура старших поколений. Сегодня маркетолог сидит у них внутри».
Другими словами, молодые художники делают свое искусство, имея внутри некий маркетинговый барометр. Художник превратился в маркетолога, артист – в чиновника: крайняя форма вертикальной интеграции.
* * *
Незадолго до того, как я перестал приходить на MTV, я ездил с Энди Шуоном на пляжную съемку на Лонг-Айленд. Шуон был музыкальным и программным директором MTV и VH-1, нового канала, который тогда еще не сформировал для себя критерии ноубрау, но скоро должен был это сделать. Если можно было сказать, что кто-то конкретно отвечает за поток клипов на MTV, то это был Шуон, начавший свою карьеру на радио. Он был диджеем-вундеркиндом, который в пятнадцать лет пришел работать на радиостанцию в Рино, штат Невада, и скоро получил предложения от других станций по всей стране. Он не пошел в колледж, а к двадцати пяти годам был уже программным директором KROQ, большой рок-станции в Лос-Анджелесе.
Шуон был большим поклонником фаст-фуда: на его недавнее тридцатилетие коллеги угощали его гамбургерами, холодной картошкой фри, шоколадными коктейлями и пиццей. И время от времени, пока мы медленно двигались в гуще машин по лонг-айлендскому шоссе, он говорил, что не может дождаться, когда мы доедем до супермаркета у выезда номер 70, чтобы купить литровую бутылку колы «Суперглоток». «“Суперглоток” не может тебе не понравиться», – сказал он мне. В отношении Шуона к «Суперглотку» я ощутил какой-то элемент ноубрау, но в чем конкретно он заключался, я так и не понял.
Когда мы купили себе по «Суперглотку», я спросил Шуона, переживает ли он из-за того, что становится старше.
– Абсолютно нет, – ответил он. – Если весь день быть на MTV, ходить на концерты, слушать новую музыку, ты никогда не постареешь. Никогда.
Солнце уже клонилось к закату, когда мы подъ ехали к симпатичному дому на берегу океана, который MTV снял на весь сезон. Человек пятнадцать ребят из демо-группы готовились к вечернему концерту Бебифейса, известного певца в стиле ритм-энд-блюз. Руководила ими англичанка Лорен Ливайн, сказавшая, что съемочная группа была «мертвой» от усталости, потому что накануне все «балдели» до трех ночи. Несколькими часами раньше демо-ребята из «реальной жизни» тусовались у бассейна, выполняя роль массовки во вставках виджеев. «Некоторые были такие красавцы, что у меня дух захватывало», – сказала Ливайн. Она приложила руку к сердцу и посмотрела на меня широко открытыми глазами.
На втором этаже дома три девушки звонили по телефону, набирая аудиторию для вечернего концерта. Они держали в руках списки ребят, уже побывавших на съемках, с пометками типа «красавчик», «секси» и т. п. Когда я спросил одну из девушек, Лизи Готтлиб, как они первоначально вышли на всех этих ребят, та ответила: «Ну, некоторых мы нашли прямо здесь, на шоссе Монток. Там была авария, и несколько человек стояли и глазели. Мы подошли и спросили, не хотят ли они поучаствовать в съемках MTV».
С террасы второго этажа я видел, как стали собираться зрители. Охранники провожали их небольшими группками мимо дома вниз по ступенькам, ведущим на пляж. Я вспомнил жутких поклонников из романа Натаниэла Уэста «День саранчи», сумасшедшую молодежь, гонявшуюся за автографами, подкарауливавшую своих кумиров и казавшуюся людьми с другой планеты. Эти ребята были не такими. То отношение к кумирам, казавшееся таким неестественным Уэсту и Рэю Брэдбери, стало нормой в девяностые годы. На чем еще, кроме поп-культуры, могла эта молодежь строить свою идентичность?
Две девушки выскользнули из общей группы и двинулись к дому, но Ливайн перехватила их.
– Билл Белами сказал, что мы можем потусоваться в доме, – сказала одна из девушек.
– Это все-таки съемка! – возразила Ливайн, пытаясь показать, что удивлена такой наивностью девушек, что было сложно, так как в самой идее пляжных передач MTV была ироническая путаница между реальной жизнью и телевидением. – Здесь нельзя просто тусоваться.
Когда всех зрителей рассадили на пляже, продюсеры начали ходить взад-вперед, разглядывая их. Самых привлекательных пересаживали поближе к сцене, чтобы они почаще попадали в камеру, а менее красивых отсаживали подальше.
Сейчас Лизи Готтлиб держала мегафон и говорила в него: «Приносим извинения, если вас отсадили от ваших друзей».
Она объяснила мне, что MTV собирался сделать клип из концертного выступления Бебифейс, а для экономии снимать решили одной камерой. Поэтому одну и ту же песню нужно было снять пять или шесть раз, и аудитория должна была при этом сохранять интерес.
– Если вас уже рассадили, не двигайтесь, пожалуйста, – продолжала Готтлиб в мегафон. – Ходить в туалет тоже нельзя.
Зрители сидели тесным кругом и послушно выполняли все требования, находясь на службе молодежным идеалам MTV.
Известная виджей Кеннеди спустилась по ступенькам и в шутку упала на песок, потом поднялась, оказавшись спиной к зрителям. В аудитории зашептали: «Кеннеди!». Две девушки встали и подошли к Кеннеди, которая разговаривала с членом съемочной группы. Она не обратила на них внимания. Одна из девушек взяла прядь длинных темных волос Кеннеди и просто держала ее, но та по-прежнему не обращала на них внимания. Вдруг она повернулась и одарила девушек широкой, фальшиво-ироничной улыбкой, саркастически произнесла «Привет» и снова повернулась к ним спиной.
Я поднялся по ступенькам с пляжа и увидел Ливайн, глядевшую на дом, который время от времени должен был попадать в кадр.
– Ну разве это не великолепно? – спросила она, показав на фонари у бассейна, освещавшие стену дома. – Мне сразу же вспомнились «Глубокие мысли» Джека Хэнди.
Энди Шуон поднялся по ступенькам с пляжа. Я сказал, что собираюсь «выдвигаться».
– Вы что, не останетесь на концерт? – спросила пораженная Ливайн.
Я извинился. Разделение публики на красивых и некрасивых вызвало у меня дурные воспоминания о тех временах, когда мне тоже пришлось быть частью демо-группы, и я впал в депрессию.
– Я посмотрю его на MTV, – сказал я.
4. Новый Курт Кобейн
Джордж Троу, который предвидел будущее задолго до того, как оно наступило, и даже писал о нем в прошедшем времени, описал коммерческую культуру как две структуры «в контексте отсутствия контекста». Есть Америка двухсот миллионов и есть Америка твоя и моя. Де Токвиль сделал подобный вывод еще в середине девятнадцатого века, написав, что в отсутствие определенного чувства реальности социального мира американцы начинают слишком много думать о своей индивидуальности: «В демократических сообществах каждый гражданин обычно занимается наблюдением за довольно незначительным объектом: самим собой. Если он поднимет глаза, то увидит лишь огромную структуру всего общества или еще более грандиозную структуру всего человечества. Его идеи либо чрезвычайно конкретны и точны, либо чрезвычайно общи и размыты. Между этими двумя крайностями лежит пустота. Следовательно, когда его вырывают из своей сферы, он всегда ожидает появления какого-либо интересного объекта. И только на таких условиях человек соглашается устраниться от всех тех мелких и непростых забот, что составляют очарование и интерес его жизни».
Ноубрау двигался в направлении, заданном Троу и де Токвилем. По мере того как «большая сеть» (big grid) растягивалась за счет коммерческой, подчиненной корпорациям глобальной культуры, включавшей в себя и «Звездные войны», и «Супербоул», и Майкла Джордана, и Лас-Вегас, и последний стадионный тур «Роллинг Стоунз», и следующий диснеевский спектакль на Бродвее, «малая сеть» (small grid) постепенно уменьшалась, становясь более личной, сосредоточенной на самой себе. Появились блокбастеры, ставшие сиквелами существующих блокбастеров. В худших из них – в которых идея достигла конца своего жизненного цикла – публика ощущала дыхание смерти и игнорировала их, но это уже не имело никакого значения. Одна из базовых истин «большой сети» состояла в том, что культурный проект, основанный на художественной ценности, был более рискованным, чем основанный на анализе рынка. Последний мог принести прибыль, даже если был плохим, за счет хорошего маркетинга, правильного выбора целевой аудитории из той самой архиважной демо-группы – парней до двадцати пяти лет – и за счет того, что Сталлоне, например, очень популярен в Индии. Контент таких проектов был гибким и мог снова и снова повторяться в виде книг, видео, компьютерных игр, атрибутики и хеппи-милов – чтобы, если фильм с треском провалится в прокате, студия все же могла бы заработать на нем деньги. Кроме того, глобальный рынок был настолько новым, сеть дистрибуции настолько обширной, а цифры настолько большими, что никто на самом деле не знал, был ли прибыльным тот или иной проект «большой сети».
По мере того как капитал еще больше концентрировался, рынок, напротив, становился более децентрализованным. Огромное культурное богатство росло, как водоросли в болоте. «Большая сеть» наполнялась людьми, протестующими против того, что все в их жизни предопределено, и они обращались к малоизвестным шотландским группам и уличным рэперам – «независимым» артистам и «аутентичному» искусству. Вместе с тем «малые сети» дробили общество на еще более мелкие ниши, изолированные друг от друга, и люди начинали тянуться к «большой сети» в поисках единства. Время от времени – и чем дальше, тем чаще – глобальная сеть из пяти миллиардов и личная сеть одного человека приходили к согласию. Смерть принцессы, ужас последних часов погибшего на Эвересте альпиниста и тепло губ практикантки из Белого дома соединяли индивидуальное и массовое в единое целое.
Бизнес MTV в определенном смысле и состоял в том, чтобы превратить искусство «малой сети» в искусство «большой сети», собирая при этом урожай Шума, вызванного переменами в структуре сетей. Главной переменой, которая стала возможной благодаря MTV, было разрушение барьеров между «большой» и «малой» сетями, между мейнстримом и андеграундом, между массовым и культовым, между всеобщим и частным. До MTV искусство для массовой аудитории и искусство для культовой аудитории весьма существенно отличались друг от друга. Существовали местные поклонники команд, групп и авторов, и существовала массовая аудитория. Продукты массовой культуры иногда зарождались на локальном уровне, но они росли долго и медленно и, достигнув массового статуса, таковыми и оставались. Но все изменилось с выходом второго альбома «Нирваны» Nevermind на лейбле Геффена в 1991 году. Ожидалось, что будет продано 200 тысяч экземпляров, а фактически продали 10 миллионов.
Конечно, и до «Нирваны» в поп-музыке были случаи мгновенного успеха, но никогда раньше культовая группа, настроенная против коммерческой культуры мейнстрима, не становилась частью мейнстрима так быстро. После «Нирваны» стала возможной ситуация, когда хип-хоп-группа, еще полгода назад выступавшая на улице, продавала пластинки миллионными тиражами, или когда группа Radis , не имевшая даже локальной известности, кроме как среди друзей и родных и никогда не выступавшая живьем, получала миллионы «фанов» за счет одной-единственной песни и хорошего клипа. Благодаря MTV авангард мог становиться мейнстримом так быстро, что старая антитеза – или авангард, или мейнстрим, – на которой строились теории многочисленных культурологов от Клемента Гринберга до Дуайта Макдоналда, потеряла всякий смысл. Курт Кобейн стал жертвой этой антитезы: он не убил бы себя, если бы группа не продала столько пластинок.
* * *
Без четверти девять вечера, когда Крис Луонго появился в CBGB, узкий и длинный бар клуба был уже набит людьми из рок-индустрии. Некоторые из них – в пиджаках и с собранными в хвост волосами – приехали в Бауэри из корпоративных небоскребов Тайм-сквер, чтобы послушать первый из трех концертов нью-йоркского промо-тура новой группы, который ее сторонники организовали в надежде заполучить выгодный контракт.
Крис Луонго, тридцатилетний искатель талантов лейбла Pure Records, протолкался через толпу к сцене, где юный Бен Квеллер настраивал усилитель. Луонго следил за группой уже несколько месяцев и слышал демо-запись из трех песен, но при этом сказал мне: «Я не мог поверить, что этот четырнадцатилетний пацан написал песни, которые я слышал». Бен выглядел лет на двенадцать. У него была белая гладкая кожа, светлые волосы и пластинки на зубах. Он умышленно долго готовил аппаратуру, напомнив Луонго «ребенка-интроверта, который играет один на детской площадке».
Но как только Бен начал играть, Луонго произнес: «Он рожден для сцены».
Бен не только пел как взрослая рок-звезда – мощным хриплым голосом – но он еще и двигался как взрослая рок-звезда, исполняя всю ту «оперу» рок-жестов, что притягивают внимание зрителей к исполнителю. Как он всему этому научился?
Бен играл в кобейновской манере – расслабленно, небрежно, но шумно, иногда размахивая гитарой, как топором, или имитируя ею член в духе Слэша. Звучание музыки притянуло типов в костюмах от стойки бара к самой сцене. Группа играла песню «Пора спать», в начале которой Бен спел детским голосом Питера Пена «Уже довольно поздно, и мне пора в постель». Потом в припеве в нем проснулся рок-н-ролльный зверь, и он заорал: «Я НЕ ПОНЯЛ ВОПРОСА!».
После концерта Луонго нашел Бена в гримерке, представился и сказал: «Черт возьми, я бы отдал все за то, чтобы делать то, что ты сейчас делал».
Но Бен, похоже, снова превратился в ребенка. Он напоминал мальчишку, который только что ненадолго перевоплотился в рок-звезду. Совершенно искренне он спросил: «Может быть, Крис, ты сможешь в меня перевоплотиться, а?».
На следующий день босс Луонго, Арма Андон, позвонила Дане Миллман с лейбла Mercury Records и сказала, что та обязательно должна посмотреть следующий концерт Radis в клубе Coney Is and High. «Я знаю, сколько ему лет, – сказала она. – Но когда он начал играть, у него не было возраста».
Выйдя вечером из клуба, Миллман достала сотовый телефон и позвонила домой своему боссу, Дэнни Голдбергу. Позже она сказала мне, что обычно этого не делает, потому что «Дэнни – человек семьи». Миллман сказала ему по телефону: «Дэнни, ты должен завтра посмотреть концерт этого парня».
– Дана, я укладываю спать детей! – ответил Голдберг.
– Дэнни, пообещай мне, что пойдешь завтра на его концерт.
И на следующий день сам Голдберг пришел в клуб Don Hill’s на последний концерт промо-тура Radis . К этому времени Шум о группе дошел и до других лейблов, и среди зрителей в тот вечер было немало людей средних лет, которые когда-то создавали индустрию рок-н-ролла: Сеймур Стайн с Elektra, Крис Блэкуэлл с Is and Records, продюсер Дон Уос. Бен сыграл свой лучший концерт, сделав трюк, для которого большинство рок-звезд были уже слишком стары, – прыжок с гитарой со сцены, после него он сыграл электрическую серенаду у столика с ведущими юристами музыкальной индустрии.
– Есть песни с драйвом, но с плохой мелодией, – позже сказал мне Голдберг. – И есть песни с хорошей мелодией, но без драйва. Но очень редко в песне есть и то и другое. У Бена ангельское личико и пластинки на зубах, но его песни – законченные взрослые композиции. В нем есть юность, радость, и это очень хорошо.
В то же время, музыка Бена не претендовала на то, чтобы изменить понятия о том, каким должен быть рок-н-ролл. Она была безопасно «альтернативной» и легко вписалась бы в студенческо-гранжевый или радиоальтернативный форматы, господствующие на радио. И это было хорошо, потому что, несмотря на заложенный в роке элемент бунтарства, рок-индустрия стала в последнее время очень консервативным бизнесом.
После концерта в Don Hill’s Роджер Гринауолт, менеджер Radis , отвел музыкантов в подвал клуба, пытаясь уберечь их, как он позже признался, от духа наживы, осязаемо витавшего в воздухе клуба. Но представитель Mercury нашел их и там, и они были приглашены на следующее утро в офис Голдберга. Там на одном из верхних этажей здания Worldwide Plaza с великолепным видом на Манхэттен Голдберг перешел в «коммерческое состояние», как он это позже сформулировал. Голдберг, долговязый, сорокашестилетний, с модно причесанными волнистыми волосами, в очках в стиле Бадди Холли, был одним из видных деятелей ноубрау. Как и Джуди Макграт на MTV в шести кварталах отсюда по Бродвею, с которой он был в дружеских отношениях, Голдберг не мог себе позволить полагаться лишь на свои инстинкты, он слишком давно покинул возрастную демо-группу. Поэтому при выборе того, с кем заключать контракт, он ориентировался на комбинацию инстинкта, исследований рынка и логики.
Обхаживая юного Бена, Голдберг считал, что пятнадцатилетние подростки, покупающие диски, наверняка среагируют на певца и автора песен их возраста. Это предположение основывалось на недавнем успехе юной Аланис Морисетт, единственной сверхприбыльной рок-звезды, созданной музыкальной индустрией за последние годы (ее альбом Jagged Little Pill был продан в количестве более 15 миллионов экземпляров). Кроме того, уже начался бум так называемых подростковых групп вроде австралийской Silverchair или проекта бывшего басис та «Нирваны» Криса Новаселича Stinky Puffs. Кто лучше всего сможет рассказать о проблемах подростков, как не рок-звезда, которой скоро исполнится пятнадцать? Руководствуясь этой логикой, Голдберг уже заключил контракт с тремя братьями-подростками из штата Оклахома – группой Hanson – и надеялся теперь добавить к списку артистов Mercury и группу Radis . Бен мог и не быть хорошим певцом, но он был подростком, и в мире поп-музыки девяностых, построенном на демографии, подросток был более надежной инвестицией.
Как и все капиталисты от культуры, Голдберг чаще ошибался, чем угадывал. Маркс в известном своем тезисе заметил, что производство порождает потребление, но если это и верно для многих других отраслей, то в культурном бизнесе этот тезис (пока) не работает. Производители автомобилей научились рекламировать и продавать свой продукт так, чтобы создавать на него спрос, который можно спрогнозировать заранее. Но попытки сделать то же самое в сфере культурного продукта имели лишь ограниченный успех. Брендинг, этот наиболее успешный способ отделить один продукт от другого, не работает в отношении большинства культурных продуктов, за исключением диснеевских мультфильмов, «брендовых» писателей и «Звездных войн». Фокус-группы и рыночные исследования так же мало помогают предсказать потребительский спрос на культуру. Идея спросить людей в фокус-группах, чего они хотят от фильма или рок-группы, подобно тому как их спрашивают, чего они хотят от крема для бритья, была изначально обречена на неудачу, потому что люди в фокус-группах отвечают на вопросы как члены группы, представляющей некий сегмент рынка, а свои предпочтения в искусстве обсуждают как индивиды.
Однако, по мере того как аристократическая культура перемещалась в супермаркет, культурные арбитры вроде Голдберга обрели огромную власть. Старые арбитры-бизнесмены типа Луиса Б. Мейера или Джека Уорнера, владевшие средствами производства или их контролировавшие, сменились маркетологами, чья роль была в том, чтобы создать для существующего контента «вкусную» оболочку. Был сделан незаметный, но принципиально важный шаг от авторитета индивидуума к авторитету рынка. Художники, которые раньше слушались продюсеров, сейчас слушались маркетологов. Появление новых возможностей для творческого выражения – от кабельных телеканалов до интернета и CD-ROM – дало писателям, художникам, кинематографистам и музыкантам новые рычаги в борьбе с хозяевами капитала. Это предвидел футурист Джордж Гилдер в своей книге «Жизнь после телевидения», вышедшей в 1990 году: «Каналы для творчества перестанут быть продуктом массового производства и массового потребления и станут бесконечным парадом ниш и подразделов… Наступает новая эра индивидуализма, и она принесет с собой культурный взрыв, не имеющий прецедентов в человеческой истории. Каждый фильм станет доступным за умеренную цену потенциальным аудиториям в сотни миллионов». Но, по иронии судьбы, получив доступ к средствам производства, художник утратил в образовавшемся культурном потопе возможность доступа к аудитории. Многократное увеличение количества каналов дистрибуции в индустрии культуры привело к разрушению, как говорят экономисты, «входного барьера». Действительно, развитие технологии значительно уменьшило издержки на производство и издание произведений в «малой сети». Неоткрытым звездам стали больше не нужны деньги лейблов, чтобы записывать пластинки. Теперь сделать компакт-диск можно было в прямом смысле в своей комнате, имея необходимое программное обеспечение и устройство для печати дисков. «Двадцать лет назад, – сказал мне Голдберг, – Стиви Уандер провел в студии много месяцев, чтобы записать Songs in the Key of Life с таким качеством, которого он хотел, и это мог сделать только Стиви Уандер. А теперь это может сделать любой. Девяносто девять процентов всех вообразимых звуков существуют в цифровой форме. Раньше артист мог спросить: “Можно пригласить скрипача?”. И на лейбле ему отвечали: “Нет, это слишком дорого”. – “А могу я записать еще один вокал?” – “Нет, на это нет времени”. Таких ограничений больше не существует».
И поскольку многие имели теперь возможность заниматься искусством, то они этой возможностью воспользовались. Рынок искусства переполнился. В ноубрау оказалось слишком много искусства – слишком много художников, слишком много кинофестивалей, слишком много книг, слишком много новых групп, слишком много «новых голосов» и «ошеломляющих дебютов». Настоящим артистам пришлось конкурировать с бесталанными ремесленниками. Художник оказался рабом маркетолога в той же, если не большей степени, в какой раньше был рабом продюсера. Да, можно снять независимый фильм, но попробуй найти для него дистрибутора, если он не попадает ни в одну маркетинговую категорию. И между тем как маркетологи работали все более успешно, выделяя все новые и новые категории – благодаря исследованиям рынка, более четкому описанию демографических ниш, – старые методы творческого вдохновения оставались неизменными.
И это происходило не только в музыкальной индустрии, а во всем «супермаркете». В журнальном бизнесе – моей сфере – редакторы, оценивающие работы журналистов, все больше становились похожи на маркетологов. Кетлин Блэк, президент компании Hears Magazines, сказала в своей речи в 1997 году: «Времена, когда редактору было достаточно иметь в своем распоряжении лишь много хороших журналистов, прошли… Сегодня им нужно уметь продвигать свои бренды в других СМИ и даже за пределами индустрии СМИ». В журнальном бизнесе рекламодатели стали в большей степени участниками редакционного процесса, чем когда-либо раньше. Компания IBM разорвала годовой контракт на рекламу в журнале Fortune стоимостью 6 миллионов долларов и запретила своим сотрудникам общаться с его журналистами после публикации статьи, которую посчитала недружественной по отношению к ее главе Луису Герстнеру-младшему. Литературный редактор журнала Esquire Уилл Блайз ушел со своего поста, узнав, что рассказ Дэвида Ливитта о гомосексуализме был снят накануне публикации. Редакторы утверждали, что рассказ сняли «из концептуальных соображений», но Блайз считал иначе, зная, что журнал обязался информировать своего рекламодателя, компанию «Крайслер», обо всех «провокационных» материалах, которые консервативный производитель автомобилей мог не захотеть видеть рядом со своей рекламой. В своем заявлении об уходе Блайз написал: «Баланс нарушен… Мы подчиняемся приказам рекламодателей (хотя и косвенно)». Журналы боролись за свою редакционную независимость, но рост их количества не способствовал этой борьбе. Журналов было слишком много – 852 новых журнала появились в одном только 1997 году, – а боролись они за ограниченный рекламный капитал, и в результате рекламодатели могли требовать невиданных ранее уступок.
Началась эра однодневок, более благоприятная для искусства, чем для художника. Из-за общей нехватки талантов маркетологи «большой сети» постоянно искали новые таланты в независимой среде, чтобы удовлетворить потребность в «аутентичном» контенте. В результате много артистов, успешных на независимом уровне, были втянуты в «большую сеть» раньше, чем они для нее «созрели». Вывод напрашивался такой: независимость продается, и цена, за которую она продается, – это конец независимости. Режиссер Джеймс Шеймас сказал мне по этому поводу: «Ты хочешь быть независимым? Заточи карандаш и напиши стихотворение».
Между тем, если подлинная независимость превратилась лишь в ностальгическое воспоминание, то идея независимости стала еще более привлекательной с точки зрения маркетинга. «От нового артиста ждут, что он станет новым мессией, – сказал мне Джордж Вулф, директор Нью-Йоркского общественного театра. – Сама идея наемного артиста исчезла. Наемный артист больше никому не нужен. Или ты чрезвычайно одарен, или ты мертв, тебя нет». Вместо ситуации, в которой «малая сеть» питала бы «большую», делая ее лучше, возникла ситуация, в которой «большая сеть» высасывала жизнь из «малой». По словам Вулфа, в театральном мире «корпоративные подходы начинают применять к тому, что всегда было малой индивидуальной формой искусства». Произошло это потому, что из-за роста издержек бродвейские продюсеры заключили союзы с корпорациями, сделав бродвейский театр исключительно коммерческим. «По мере того как коммерческий ландшафт становится все более и более сладостным в своих попытках понравиться всем, – продолжал Вулф, – некоммерческие театры вынуждены быть тем, чем когда-то был Бродвей, – интересным и прогрессивным театром для коммерческого ландшафта. И это подменяет то, чем некоммерческий театр был с самого начала – полем для развития и становления талантов и альтернативой коммерческому ландшафту. Теперь от нас ждут, что мы будем генерировать новые идеи. Поэтому в мире некоммерческого театра надо быть очень осторожным абсолютно во всем. Два или три года назад я ставил пьесы, ставить которые сейчас я, может быть, и не рискнул бы, потому что понимаю теперь, что не просто даю артисту возможность быть открытым, но и произвожу некий “продукт”, а это – опасное дело».
Соблазнительная аморальная темнота между «большой сетью» и «малой» освещается искрами артистов, движущихся от успеха в «малой сети» к провалу в «большой». Вундеркинды вроде Бена рвутся наверх, и в тот момент, когда их индивидуальность подавляют деньги и слава «большой сети», их ждет жестокий удар. Часто тридцатилетние неудачники «большой сети» возвращаются в «малую сеть» – использованные и забытые. Пространство между сетями – это и есть ноубрау: апокалиптическая степь, по которой, как призраки, бродят писатели средней руки, хорошие, но не выдающиеся кинорежиссеры и крепкие, но не эффектные рок-группы, когда-то составлявшие средний культурный слой. На разных полюсах такой «сетевой» структуры оказались Фиона Эппл и Бритни Спирс.
* * *
Уже через неделю после промо-тура Radis четырнадцать лейблов ввязались в войну за право заключить контракт с группой. Люди с лейблов говорили всем подряд: «Бен просто супер». И Бен действительно вызывал симпатии своей мягкостью и мальчишеской чистотой, умением говорить «Ты мне нравишься, чувак» с абсолютной искренностью, своей готовностью сразу же обнять тебя, своим интересом к собеседнику и особенно тем, что казался всем золотой версией своей юности. Взаимная эксплуатация взрослых и детей, присущая ноубрау, выразилась здесь в отношениях между невинным, но не глупым Беном и прожженными, но нуждающимися в нем боссами звукозаписывающих компаний. Бена, которого называли «новым Куртом Кобейном», пытались запихнуть в стандарт музыки старшего поколения, сделать певцом с гитарой альтернативного формата, который Кобейн когда-то и создал и который стремительно терял своих поклонников, проигрывая хип-хопу.
Роджер Гринауолт сказал: «Когда я увидел Бена, я сказал себе: это ужасно интересно, потому что это самый странный вундеркинд, которого я когда-либо видел. Большинство музыкальных вундеркиндов повернуты на игре. Для них главное – их отношения с инструментом. А Бен чокнут не на игре на инструменте, а на том, чтобы писать песни, петь и, главное, вести себя как рок-звезда». Пол Колдери, который вместе со своим партнером Шоном Слейдом пересводил первый альбом Бена, вообще отказался считать Бена вундеркиндом. «Он всего лишь толковый, талантливый парень, который много смотрел MTV, – сказал он. – Во времена, когда я был подростком, если кто-то хотел стать рок-звездой, он мог смотреть лишь две или три передачи – и все. А сегодня рок-звезд показывают круглые сутки. То есть ты постоянно видишь, что надо делать, чтобы быть рок-звездой, и парень хорошо понял все подсказки. Можно сказать, что он им подражает, но он очень быстро учится».
Бен был «настоящим» в том смысле, что был подростком. Росс Эллиот, сотрудник одного из подразделений Viacom, компании Famous Music, которая, в конце концов, купила права на издание песен Бена, сказал, что главное в песнях Бена – то, что он писал о своих же недавних переживаниях. Фаны-подростки могли слушать что-то «настоящее», подлинные чувства своего ровесника, а не чувства старого толстого дядьки в гриме и парике. «В музыкальном бизнесе мы все фальшивим, – сказал Эллиот. – Мы швыряем подросткам эти альтернативные группы, а они не чувствуют с ними никакой связи и начинают слушать рэп. Но Бен – это и есть аудитория. То, что он пишет, – это настоящее. “Явление непорочности!” – воскликнул он, имея в виду название одной из песен Бена. – Это идет не от человека, который многое видел. – Он показал себе на грудь. – Это идет от искреннего, неиспорченного человека. Бен – честный. Он еще так молод, что может себе позволить быть честным. Все, про что пишут песни, – почему любовь должна быть такой грустной – все это прямо сейчас с ним происходит».
Эллиот считал Бена, который не слишком хорошо знал музыкальную грамоту, интуитивным рок-гением, и, чтобы доказать это, рассказал мне, как Бен был у него в гостях в Нью-Йорке вместе с еще шестью или семью музыкантами. «Это были очень серьезные музыканты, многим уже за двадцать и за тридцать, и мы сидели на крыше, пытаясь вспомнить одну песню “Битлз”, – рассказал он. – И Бен сказал: “А, понятно. Здесь нужна инверсия, а здесь вот – уменьшенный аккорд соль-пять”. Он не пошел по самому легкому пути, но подобрал аккорды абсолютно верно. И сделал это на слух! Другие музыканты смотрели на него и спрашивали друг друга: “Что это за парень?”». Эллиот добавил, что у Бена был еще один природный дар, столь же ценный для рок-музыканта, сколь и музыкальные способности, – умение привлечь красивых женщин. Однажды Эллиот пригласил Бена и нескольких взрослых музыкантов на вечеринку в клуб Don Hill’s, где, как обычно, присутствовало множество двадцатипятилетних красавиц. «У тех остальных ребят не было шансов, – вспоминал потом Эллиот. – Одна девушка подошла ко мне и спросила: “А что же будет, когда он вырастет?”. К концу вечеринки Бен сидел в окружении шести красоток, и они все смотрели ему в рот».
Для Бена, застенчивого, далеко не спортивного вида паренька, который никогда не был особенно популярен в своей школе, все это было «сюрреально». До самого начала «войны» за контракт с ним он жил в «малой сети» школы, семьи и атмосферы маленького городка. Его аудиторией были родители, друзья и официантки в местной закусочной – он оставлял им свой автограф на меню. А сейчас из-за изменений в структуре «сетей», ставших возможными благодаря MTV, он вот-вот должен был стать известным. Это великолепное чудовище, известность «большой сети», сверкающее своим циклопическим глазом над саванной «малых сетей», вдруг уделило все свое внимание ему.
Поначалу родителей Бена (его отец, Хауи, был врачом в Пресвитерианской больнице в Гринвилле, штат Техас, а мать, Ди, имела диплом консультанта) потряс тот факт, что они живут под одной крышей с рок-звездой. Предложения, сыпавшиеся их сыну, сулили больше денег, чем они видели за всю свою жизнь: два с половиной миллиона долларов певцу, о котором никто никогда не слышал, и группе, которая играла только на школьных танцах и в кофейнях. Ди рассказала мне: «Мы сказали ему: “Бен, может, ты сначала закончишь школу и колледж, а потом уже займешься всем этим?”. Но Бен не захотел ждать. Ему казалось, что он и так всю свою жизнь ждал. Как можно требовать от четырнадцатилетнего, чтобы он подождал шесть лет? Бен говорит, что это его предназначение, и я ему верю. Его время пришло. Песни у него уже есть, и ждать больше ни к чему». Ди понимала, что рок-сцена – это и много девушек, наркотиков и алкоголя. «Но мы попытались дать Бену правильные представления обо всем этом, – сказала она. – Взять, например, Курта Кобейна, это один из его героев. Мы сказали: “Ты можешь уважать его музыку, но не то, что он сделал со своей жизнью”». И Бен ответил: “Да, я это понимаю”».
В июне Хауи, Роджер и Бен встречались в Лос-Анджелесе с представителями лейблов. Мадонна пригласила их к себе домой на обед и едва не уговорила заключить контракт с ее лейблом Maverick прямо там же. Когда они обедали, на мотоцикле приехал Энтони Кидис из Red Hot Chili Peppers. А на следующий день перед отелем, где они жили, остановился белый лимузин, и их отвезли в Малибу на встречу с Джимми Айовайном, главой Interscope Records, на его роскошную виллу на берегу океана, которая занимает несколько акров, рядом с виллой Дэнни Голдберга. Айовайн пригласил нескольких друзей, чтобы вместе посмотреть чемпионский бой по боксу в среднем весе, – Акселя Роуза, Тома Петти, Джо Страммера и Доктора Дре. Для Хауи это было как если бы он умер и попал в Hard Rock Cafe на небесах. Он вырос в те времена, когда рок-звезд и их фанов связывали лишь несколько едва доступных фэнзинов – когда знание секрета, как расположены порожки на гитаре Джимми Пейджа, благодаря чему она звучала, как в песне Whole Lotta Love, было едва ли не оккультным, доступным лишь избранным. Но Бен, дитя современных СМИ, точно знал, как вести себя в компании рок-звезд. Это было все равно что смотреть MTV.
Потом кто-то принес гитару и дал ее Петти, и он тут же на месте сочинил песню «Джимми Айовайн и его зеленые футбольные поля», имея в виду футбольные матчи с участием рок-звезд и боссов музыкальной индустрии, которые проходили в Лос-Анджелесе до тех пор, пока жены участников не заставили их прекратить это дело, потому что они уже были не слишком молоды и получали во время игры травмы. (Но в песне содержался и намек на ту кучу денег, которую Айовайн заработал в музыкальном бизнесе.)
– Потом он передает гитару Джо Страммеру, – рассказал мне Гринауолт, – и все говорят: «Джо, сыграй London Calling». А Джо говорит: «Пошли вы! Не буду я играть London Calling». Потом он берет гитару и играет эту песню, а после говорит: «Эй, пацан, лови!». И бросает гитару Бену, который сидит в другом конце комнаты, метрах в десяти. И гитара летит над стеклянным кофейным столиком за миллион долларов и над всякой дорогущей дребеденью, а Бен встает, спокойно ловит ее, садится и поет пару своих песен. И все эти парни просто обалдевают.
В конце концов, отношения Дэнни Голдберга с Куртом Кобейном (Голдберг был менеджером «Нирваны» и другом Кобейна) сыграли свою роль в том, что Бен выбрал Mercury. Голдберг даже попросил вдову Кобейна, Кортни Лав, позвонить Бену. «Я поднимаю трубку, и там женский голос, и она не объясняет, кто она такая, а начинает говорить быстро-быстро, – рассказывал мне Бен. – Говорит, что она слышала мои песни и они ей понравились, и так далее, и потом я, наконец, понимаю, что это Кортни Лав. Слушай, я даже не знаю, когда она успевает дышать, – так быстро она говорит. Это, наверно, как если играть на волынке – ты должен научиться дышать через нос».
По условиям контракта, который все-таки был заключен, Бен не имел полного доступа к своим деньгам до тех пор, пока ему не исполнится восемнадцать. Ему причиталось 750 000 долларов в качестве аванса, и он должен был записать три альбома независимо от того, выпустит их лейбл или нет. Бен получит роялти 13,3 процента от продаж дисков – это на уровне групп первого эшелона, например U2, – и, что неслыханно для молодых артистов, полный творческий контроль над материалом. Бен также подписал контракт на издание его песен на сумму 1,2 миллиона долларов.
* * *
Голдберг хотел, чтобы Radis сначала завоевала популярность на местном уровне – в районе Далласа, – прежде чем он выпустит первый альбом группы, Restraining Bolt. Он стремился подчеркнуть, что группа из Техаса, что она «настоящая», а не продукт музыкальной индустрии вроде версии Monkees девяностых годов. (Журналист «Даллас морнинг ньюс» посетил концерт Radis в местном клубе и написал в газете про мужчин средних лет с волосами, собранными в хвост, и в очках от Армани, сидящих в дальнем конце бара.) В одну из суббот в конце января Radis должен был сыграть два концерта в районе Далласа Дип Эллум. Бен сказал мне, что хотел бы вздремнуть между концертами, но это кажется ему трудноосуществимым. Он сидел на кровати в своей комнате, Джон, барабанщик, лежал на полу, подложив руки под голову, басист Брайан, которого ребята называли Брейн-мозг – за то, что он учился в колледже и много всего знал, сидел, прислонившись к стене. Комната Бена была более чистой, чем обычно, – мать заставила его навести в ней порядок перед моим приездом. У Бена, большого фаната «Звездных войн» (название альбома Restraining Bolt – «Ограничительный болт», было взято из сцены, в которой Люк устанавливает на R2-D2 ограничительный болт, чтобы маленький дроид не убежал), висело три постера «Звездных войн», большой постер Курта Кобейна и еще больший – Риверса Куомо, вокалиста группы Weezer. Я посмотрел на постеры «Звездных войн» и понял, что «Звездные войны» и являлись тем, что было общего между мной и Беном. Это было нечто, в чем мы оба участвовали, во что верили – в то мирное, благополучное время, когда не происходило никаких исторических событий, которые могли бы нас объединить. Пол Ле Клерк, президент Нью-йоркской публичной библиотеки, спросил меня, когда я брал у него интервью, может ли отдельно взятое произведение литературы или искусства иметь сегодня такое влияние, как «Фауст» Гете в Европе в начале девятнадцатого века. «Если нет, значит, то, что мы видим сейчас, – это грандиозная перемена в отношениях между потреблением и творчеством, – сказал он. – В наше время, когда существует такой информационный поток и нужно постоянно перемещаться между тривиальным и важным, трудно себе представить, чтобы какой-либо текст мог иметь такое влияние. В конце двадцатого века мы превратились в общество, ценящее количество, скорость и продуктивность, а для создания произведений искусства требуются время, размышление, покой и пространство». Мой ответ: «Звездные войны». Это наша классика, хотя здесь присутствует и маркетинговое значение слова «классика» как «чего-то, заслуживающего внимания».
Я сидел у стола Бена, когда он должен был делать уроки. Бен был очень рассеян, и из-за этого читал медленно. Он делал много ошибок и писал детскими каракулями. Ему также с трудом давались арифметические действия. Мать сама обучала его дома с шестого класса.
Бен приоткрыл рот и слегка откинул голову назад, чтобы видеть из-под челки, сохранившей еще остатки зеленой краски – следы самостоятельного, без родителей, пребывания группы в Нью-Йорке, где в студии Sony музыканты сводили свой альбом (Джон покрасил тогда волосы в оранжевый цвет). Ди рассказала мне, что ей пришлось заплатить почти сто долларов, чтобы смыть краску с волос Бена, когда тот вернулся в Гринвилл.
Зазвонил телефон, и Бен посмотрел на определитель. «О, это моя сестра», – сказал он, имея в виду сестру Хайди, которая жила в Далласе. Бен взял трубку. «Круто. Она говорит, что наша песня на радио Q102 прямо сейчас». Бен включил радио. Зазвучали аккорды Dear Aunt Arctica – песни про сожжение церквей и порнографию. Бен тихонько подпевал.
Песня звучала довольно неплохо, но мощь ее саунда контрастировала с хрупкой фигуркой парня, стоящего у радио приемника.
– Странно как-то, не надо нажимать на play, – сказал Бен.
Джон, как всегда молчаливый, загадочно улыбнулся.
Когда песня закончилась, Бен поднялся к отцу, который составлял с помощью интернета маршрут предстоящего тура группы в Файеттвиль, штат Арканзас. «Отличный сайт! Просто супер!» – воскликнул он. Бен сел перед телевизором и стал играть в «Звездные войны» на игровой приставке «Нинтендо» – у него это здорово получалось. После нескольких успешных рейдов по глубокому каньону и истребления немалого количества имперских гвардейцев Бен отправился к кораблю, который должен был доставить его к Бобе Фетту, но промахнулся при взлете и погиб. Хауи, не отворачиваясь от своего экрана, сказал: «Когда мы поедем в тур, надо будет взять с собой “Нинтендо”».
Когда Хауи было столько лет, сколько сейчас Бену, он играл в рок-группе на ударных, но от мечты стать рок-звездой пришлось отказаться, когда он поступил сначала в Университет штата Мэриленд, а потом в медицинскую школу в Маунт-Синай. Сейчас его юношеские мечты реализовывались через сына. Хауи был менеджером его группы, но в преддверии тура по всей стране, приуроченного к выходу альбома, и ожидаемой славы в «большой сети» подумывал о том, чтобы нанять профессиональных менеджеров. На следующий день в гости к Квеллерам должен был приехать по их приглашению из Лос-Анджелеса Уоррен Энтнер, менеджер групп Nada Surf, Failure и Rage Against the Machine.
Я чувствовал воодушевление, витавшее в воздухе дома Квеллеров, то магическое ощущение, что, хотя вроде бы все и должны продолжать жить, как раньше, вот-вот произойдут большие перемены. Хауи собирался сократить свою врачебную практику, а Ди планировала ездить с группой в туры в качестве учителя Бена и Джона. Ощущение, что в доме все переворачивается с ног на голову, было особенно сильным в гостиной дома Квеллеров, которая одновременно служила и местом репетиций группы. Со стандартной мебелью, иудаистскими рисунками на стенах и маленьким пианино она выглядела бы традиционно, если бы не инструменты ребят посередине комнаты. Обломки палочек Джона, неистово молотившего по барабанам, были собраны в кучу на персидском ковре.
Негромкое постукивание привлекло меня на кухню. Там Эбби, десятилетняя сестра Бена, исступленно отрабатывала чечетку для урока танцев. Сидящая тут же на кухне Ди заметила, что Эбби, получавшая раньше все внимание семьи, тяжело переживает успех Бена. Мы перешли в гостиную и заговорили о последней песне Бена, Panamanian Girl, которую он дописал накануне. Ди сказала, что песня посвящена девушке Бена – Эмили, бабушка которой была родом из Панамы, и она была первой настоящей девушкой в жизни Бена. Когда после нескольких недель свиданий Эмили бросила Бена и вернулась к своему бывшему парню, игроку школьной футбольной команды, которому было уже семнадцать, и он умел водить машину, Бен, как сказала Ди, «сильно расстроился». Она сделала грустное лицо. Но когда Бен заключил контракт с лейблом, панамская девушка вернулась к нему. Сейчас, по словам Ди, Бен психовал, потому что Джон начал встречаться с девятнадцатилетней сестрой Эмили. Ди с нетерпением ждала вечера, чтобы услышать новую песню Бена и, может быть, узнать что-нибудь новое об отношениях ее сына с Эмили.
Бен, который, казалось, следил за тем, чтобы его мать не сказала что-нибудь слишком стыдное про него, зашел в гостиную и сел за ударную установку. Я спросил его, как он относится к тому, что Джон встречается с сестрой его девушки.
Бен пробурчал: «Зна-а-ешь, это так странно. Я прихожу к ней домой, а там сидит он. Неудивительно, что я в такой жопе». «Ты не в жопе, Бен! – сказала его мать. – И не употребляй больше слово “жопа”».
* * *
На следующий день, когда мы играли с Беном на игровой приставке в «Звездные войны», он рассказал мне, что пишет песни, сколько помнит себя: «Я писал песни, в которых были слова “Я тебя люблю” и было про девушку. Я понятия не имел, что такое любовь. Я просто слушал песни “Битлз” и “Бич Бойз”, которые ставили родители, и понял, что в песне должна быть “любовь” и должна быть “девушка”». Среди его самых ранних рок-н-ролльных воспоминаний – приезд Брюса Спрингстина в Даллас в 1985 году во время тура Born in the USA. Бену было четыре года. Тогдашний гитарист Спрингстина, Нильс Лофгрен, знал Хауи еще в юности, когда играл на аккордеоне в группе, которую основал Хауи. Он достал для Квеллеров бесплатные билеты и пропуск за кулисы. Они познакомились со Спрингстином перед концертом, и тот был настолько очарован Беном, что позволил ему остаться на сцене во время концерта. Бен немного потанцевал под музыку, потом залез на огромный динамик, из которого звучал вокал, и уснул. «Вибрация меня усыпила, – рассказал он мне. – Это было как в машине». Проснувшись, он не мог понять, кто он: мальчик, которому приснилось, что он стал рок-музыкантом, или рок-музыкант, которому приснилось, что он снова стал ребенком.
После того концерта Бен стал подражать Брюсу и Нильсу. Ди рассказала: «Он прыгал по дому, как Нильс на сцене, и кричал: “Я – Нильс, слышите? Я – Нильс!”». Как и многие другие дети с проблемами концентрации внимания, Бен постоянно кому-то подражал. Увидев почтальона, он начинал воображать себя почтальоном. «Кого бы он ни изображал, он всегда играл свою роль до конца», – сказала Ди. А Бен добавил: «Каждый день я подражал разным людям, я был новым человеком каждый час. У меня в комнате была куча всяких костюмов, и я постоянно переодевался». Когда Бену было десять лет, вышел альбом «Нирваны» Nevermind, и он в первый раз увидел Курта Кобейна в клипе Smells Like Teen Spirit. Теперь он стал по-другому относиться к «Битлз». «Когда появилась “Нирвана”, я понял – это то же самое, что “Битлз”, только здесь гитары звучат погромче». Тогда же Бен приобрел свой внешний вид, напоминающий Курта в детстве, – мальчика, который «слишком хорош для этого мира».
В шесть лет Бен начал учиться играть на фортепиано. Преподаватель ругал его за то, что он менял аккорды в песнях, но потом понял, что это признак творческого дара, а не непослушания, и сказал родителям Бена, что их ребенок обладает уникальным талантом. В двенадцать Бен начал играть на отцов ской гитаре, научил соседского парнишку игре на ударных и тут же собрал группу под названием «Зеленые яйца и ветчина». Позже Бен познакомился с басистом, в январе 1994-го Джон присоединился к группе в качестве барабанщика. Через несколько месяцев у Бена появилась собственная гитара, а в июне группа дебютировала на празднике совершеннолетия Бена – бар-мицва. Тогда же ребята назвали себя Radis . Сначала они искали себе имя среди названий болезней в медицинском справочнике Хауи, в конце концов остановились на имени, которое Бену подсказал встреченный им однажды на вечеринке парень. Хауи и Дэвид Кент, отец Джона, решили, что группа звучит неплохо. Они сделали демо-запись и отправили кассету Логфрену, который позаботился, чтобы она попала в руки его продюсера Роджера Гринауолта.
* * *
В субботу вечером мы выехали из Гринвилла в Даллас, где у группы должен был состояться концерт. Джон-барабанщик вел машину очень быстро. Хауи и отец Джона, Дэвид, пытались угнаться за ним в «Шевроле» Дэвида, к которому был прицеплен трейлер с инструментами и аппаратурой.
Бен спросил пиарщицу с лейбла Mercury, какие группы ей нравятся. Она сказала:
– Ну, например, «Морфин».
– Круто! – сказал Бен. – Мы любим «Морфин».
– Нет, мы любим «Кодеин», – поправил его Джон.
– Да, то-о-о-чно.
– Эта машина сзади меня уже достала, – произнес Джон, и я увидел фрагмент его красивого лица в зеркале заднего вида.
– Покажи им палец, – сказал Бен.
– У меня нет на это сил, – со скукой в голосе выдавил из себя Джон.
Но его глаза заблестели, как только по радио за звучала старая песня группы Bad Company – песня, которую я слушал по радио с таким же энтузиазмом в семнадцать лет. Я обратил внимание на это обстоятельство. Хотя я был старше парней настолько, что мог бы быть их отцом, мы находились с ними на одной стороне в культурной войне поколений. Эта война велась между теми, кто вырос в мире, где индивидуальность была отделена от поп-культуры (мир моих родителей), и теми, кто вырос на Гиллигане, Капитане Кирке и Джоне, Поле, Джордже и Ринго. Для первых поп-культура была массовой культурой – культурой кого-то другого, чуждой их идентичности. Но для меня и еще в большей степени для этих парней поп-культура была народной культурой – нашей культурой.
Джон, вращая ручку настройки приемника, нашел песню «Нирваны» Come As You Are:
У меня нет ружья, Нет, у меня нет ружья.В этих строчках было что-то «незаконное», в духе Джесси Джеймса, как, впрочем, и в песне Bad Company. Только здесь, вместо того чтобы ограбить банк, певец собирался из ружья вышибить себе мозги.
Я заметил, что оружие удивительным образом присутствует во многих песнях Кобейна. Бен сказал:
– Наверно, он всегда хотел себя убить, и думал про это, и пытался про это сказать другим людям, но рядом не было никого, кто ему помешал бы.
– Дэнни Голдберг был рядом, – сказал я.
– Да, Дэнни был его менеджером. – Бен задумчиво кивнул.
В тот день у меня был день рождения. Мне исполнялось тридцать восемь, из-за этого я чувствовал себя подавленным. Черт возьми, мне тридцать восемь лет, а я сижу здесь с мальчишками, которые годятся мне в сыновья, и записываю, что они говорят, – преимущественно разные вариации слова «чувак». У них оно выражает все – от призыва вместе штурмовать крепостные стены до грустного сочувствия или мрачного фатализма. Поп-культура была крутой, и интересной, и свежей, и все прочее, и она дарила мне моменты вроде тех, что я испытал на концерте Chemical Brothers, на которые у старой культуры явно не хватало силенок. Но, может, это все походило на легкую беременность? Ты питался Шумом, а он питался тобой. Но Шум был ненасытен. Ты не только постоянно должен был его подкармливать, но ты должен был давать ему все больше и больше. Начав писать о потенциальных звездах, ты становился частью этого гудящего потока Шума, мало чем отличающегося от ведущего передачи Entertainment Tonight, который сообщает, что «тема нашей очередной программы могла бы показаться выдумкой, взятой из дешевого романа, если бы все это не было реальным…».
Поп-песни выражали дух времени в той степени, в какой это не удавалось сделать более сложным произведениям вроде романов, пьес и симфоний. Но в результате о всей культуре начали судить по стандартам поп-песни. Ты слушал ее, она тебе нравилась, потом быстро надоедала, и ты преставал ее слушать и начинал искать новую песню, которая тебе понравилась бы.
Я тихо сидел на заднем сиденье, глядя на неоновый нимб над горизонтом – огни Далласа, видные за тридцать миль прерий. Потом я сказал:
– Черт, а знаете, что сегодня за день? Сегодня, типа, мой день рождения.
Я не сказал, сколько мне исполняется лет, и был готов соврать, если бы меня спросили. Но, к счастью, никто не спросил.
– Чув-а-а-а-к! – как-то неуверенно прогудел Бен. – С днем рождения, чувак!
* * *
Концерт проходил в клубе «Гэлакси», и на нем присутствовали люди всех возрастов. Перед Беном играла шумная панк-хардкор-группа Puke. Родители сидели подальше от сцены, закрыв руками уши, чтобы не слышать тот ужасный шум, под который «колбасились» у сцены их дети. Вокалист группы, весь покрытый татуировками, закончил песню и заорал в микрофон: «Что за FUCK? Вперед, скажите слово “fuck”! Вам ведь разрешают говорить “fuck” или нет?».
После Puke на сцену вышел Radis . Перед началом выступления Бен попытался установить контакт с аудиторией. «Кто из вас смотрел фильм “Бивис и Баттхед уделывают Америку”?» – спросил он. Пара человек подняла руки. Бен начал говорить что-то еще, но остановился. Позже, когда я спросил его, о чем он думал в тот момент, он ответил: «Мне сложно разговаривать с аудиторией. Я всегда боюсь, что кто-то скажет: “Заткнись, пацан. Мы не хотим тебя слушать, ты всего лишь пацан”».
Группа начала с песни Simple Sincerity, которую Бен написал про «войну» за него между лейблами:
Заберите мою простоту, Заберите мою искренность, Заберите мою простоту, Заберите ее у меня!Аудитория среагировала мгновенно. Рок-монстр вырвался из Бена наружу. Он смотрелся очень неплохо – для подростка.
На третьей песне вокальный микрофон Бена, который Хауи купил совсем недавно, сгорел, и Хауи бросился на сцену. (На предыдущем концерте, когда сгорел один из басовых усилителей, Ди едва не растерзала равнодушного бармена, крича ему: «У них сгорел усилитель! Сделайте что-нибудь!».) Бен сохранял полное спокойствие. Он отошел от микрофона и позволил Джону закончить песню. Все выглядело так, словно было подготовлено заранее. Уорнер Энтнер, стоявший рядом со мной вне пределов досягаемости небольшой, но потенциально опасной группы прыгающей у сцены молодежи, прокричал мне: «Поразительное самообладание!».
Группа сыграла Aparition of Purity, во время которой Бен злобно выкрикивал: «Чистота! Чистота!». Мимо проскользнула младшая сестра Бена, Эбби, танцующая со своим девятилетним приятелем, который написал Бену письмо: «Дорогой Бен! Ответь мне: ты меня любишь? Ответь мне: я тебе нравлюсь? Я обожаю твою музыку».
Последней песней была Panamanian Girl. Сама героиня песни, привлекательная шестнадцатилетняя девушка в ярко-розовых леггинсах и скромной юбке, стояла перед сценой, глядя на Бена, который, расставив ноги, склонился к своей гитаре, словно вытряхивая из нее звуки. Девушка протянула руки к Бену. Он продолжал терзать гитару. Это был один из тех «настоящих» моментов, который, как надеялся Дэнни Голдберг, скоро можно будет продать миру в форме товара: жест девушки (возможно, иронический) в видеоклипе. Но, по крайней мере сейчас, это был настолько невинный и радостный эпизод, что Уоррен Энтнер и я посмотрели друг на друга широко улыбаясь. Вернувшись в Нью-Йорк, я посетил Роджера Гринауолта в его квартире в Верхнем Вест-сайде. Было еще холодно, мороз, напавший на город перед днем инаугурации, все никак не отпускал. Я доехал до Верхнего Вест-сайда на метро. В кинотеатре на Восемьдесят четвертой улице шли «Звездные войны». У входа кутались в воротники люди, надеясь, что фильм согреет их трогательными воспоминаниями – фильм, излучающий главным образом ностальгию. Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением…
Квартира Гринауолта была на Восемьдесят третьей улице на первом этаже. Снаружи завывал ветер, но в квартире было тепло, свет неяркий, горели свечи и играла музыка. Я, Роджер и его красивая юная подруга-модель Джилл сидели на диване, попивая хороший скотч. Гринауолт, сделав многозначительный жест, произнес: «Идеальная карьера – это как идеальное преступление. Я сижу здесь на диване с красивой девушкой, пью скотч Macallan и рассказываю тебе свою историю. И это хорошо».
Роджер когда-то был лучшим четырнадцатилетним гитаристом в своем городке и тоже хотел стать рок-звездой. Ближе всего он подошел к своей мечте во время «новой волны» начала восьмидесятых, когда играл в группе Dark музыку в стиле Брайана Ино и Дэвида Боуи и одновременно записывался и выступал с Риком Окасеком и группой T e Cars. Но, в конце концов, Роджер сказал себе: «Это все не то». Он стал сессионным гитаристом, а теперь в основном продюсером, который делает великолепные фонограммы для других групп. Его главной мечтой было убедить одну из пяти крупнейших звукозаписывающих компаний дать ему деньги на то, чтобы открыть свой лейбл. Radis , которую он называл своим детищем, могла помочь ему в этом.
Кассета, которую ему принес Нильс Лофгрен, понравилась Роджеру уже «через тридцать секунд». «Было видно, что парень умеет писать песни, – рассказал Роджер. – Я позвонил Хауи, и он был очень рад, очень взволнован. Он и Ди воспринимали меня как рок-звезду. Я слетал к ним, чтобы посмотреть, есть ли у них возможность работать на том профессиональном уровне, которого я требовал». В конце концов, Роджер провел у Квеллеров, приезжая и уезжая, около двух месяцев. Он работал с Беном и Джоном над их песнями по восемь-десять часов в день.
– Мы разбирали каждую песню – каждую строчку текста, каждый аккорд, и я требовал, чтобы Бен доказал, что они на месте, – вспоминал Роджер.
Он пытался объяснить Бену, что надо больше внимания уделять своей пластике, потому что рок – это не только музыка, но еще и имидж. «Рок-звезда должна играть всем своим телом». Он объяснял Бену, что для рок-звезды существует только настоящий момент. Каждый аспект его выступления – как он играет, как он поет, как он стоит на сцене – должен доносить до слушателя ощущение, что это единственный возможный момент – мгновение наивысшего кайфа. Что такое рок-звезды, как не персонификации подобных моментов? «Я спрашивал Бена, – рассказывал Роджер, – какое у него любимое блюдо. Хорошо, давай его приготовим. Какой твой любимый цвет? Хорошо, давай что-нибудь в него перекрасим. Что за аккорд ты играешь сейчас на гитаре? Почему ты его играешь? Тебе нравится поднимать руки над головой?» – Роджер вскочил с дивана, опустил голову и медленно поднял руки вверх, изображая Роджера Долтри или Питера Фрэмптона, стоящих на сцене в лучах прожекторов.
Я мог себе представить обеспокоенность Хауи и Ди тем, что же этот полноватый, не слишком озабоченный моральными принципами тип в непременных черных джинсах и с сигаретой в зубах делает у них в доме. Роджер назвал это «платоническим романом», во время которого он учил Бена духу рок-н-ролла – от Джаггера, Чака Берри и Роберта Джонсона до Оскара Уайльда, Малера, Листа и поэтов-романтиков.
– Я объяснил Бену, что он – не Курт Кобейн, – продолжал Роджер. – Я сказал: пойми, Курт был чудом, абсолютным чудом. И ты – не какой-нибудь ребенок-певец. Это не аура Дэвида Кассиди, а аура Джоди Фостер. На тебя могут обратить внимание, потому что ты молод, но ты не можешь быть вечно молодым. Мы должны конкурировать вот с чем. – Роджер ткнул зажженной сигаретой в сторону музыкального центра, где играл альбом U2 – Achtung Baby. – И с Беком, и с Pavement. – Он сделал затяжку и посмотрел куда-то вдаль. – Не знаю. Может быть, Бен станет Ширли Темпл. – Он снова обратился ко мне: – И хорошо. У Ширли Темпл неплохая аура.
Джилл сказала, что ей пора на урок поэзии, и спросила, не хотим ли мы, чтобы она до своего ухода приготовила нам чизбургеры. Когда она готовила на кухне еду, Роджер сказал мне: «Надо жить широко, но оставаться собой. Маленькая реальность – вот мой девиз и девиз Бена».
Он поднялся с дивана и еще раз включил песню U2 – One. Многие пытались играть в рок-звезд, но далеко не все обладали талантом, чтобы существовать по жестким законам современной рок-сцены, и тем более возвыситься над ними и действительно что-то сказать слушателям.
Tебе становится лучше Или так же, как было? Tебе станет легче, Если будет кого обвинить?Гитара, казалось, вела куда-то внутрь песни, где существовала возможность убежать от ее грустного настроения, туда, где «Одна любовь, одна жизнь… Одно желание в ночи».
Бен очень четко чувствовал основные составляющие поп-песни и обладал природным даром соединять их, но он не обладал душой Боно. One – это была песня, которую, услышав один раз, хотелось слушать еще и еще. В сравнении с этим Бен писал просто про свои уроки и первые увлечения. Может быть, пятнадцатилетние слушатели и могли почувствовать какую-то связь с тем, о чем он поет, но для тех, кто постарше, в его песнях не было никакого мессиджа. И все-таки дело было не в этом. Неважно, хороший певец Бен или нет. Важно, что он подросток. Подростки – это и есть артисты ноубрау.
* * *
Джилл принесла нам чизбургеры. «Я уже закидывал удочки насчет группы людям с лейблов, и ожидания очень велики», – сказал Гринауолт о раскрутке Radis , во время которой началась «война» за группу. Известный в музыкальной индустрии адвокат Джонатан Эрлих из конторы «Грабман, Индурски и Шиндлер» обещал задействовать свои связи в обмен на процент от контракта. Это Роджер организовал промо-тур и привез группу в Нью-Йорк. Бен и Джон ночевали в его квартире. Эрлих являлся представителем группы при подписании контракта, за что получил свое вознаграждение. Хауи как менеджер группы получил фиксированную сумму, как и Джон. Гринауолту заплатили 60 000 долларов за открытие группы и работу с ней и пообещали проценты с продаж альбома, который был записан в июле и сведен в августе.
Но, послушав записанные Роджером песни, Бен остался недоволен их звучанием. У них было приглаженное, законченное, инструментальное звучание, популярное в начале восьмидесятых. (Оно напоминало ту музыку, которую когда-то играл сам Гринауолт, но так никогда и не записал альбома.) «Когда мы услышали это, мы сказали: что это, чувак? Это же нью-вэйв, – рассказал мне Бен. – И я сказал ему, что ребята убьют меня за такое». Бен пытался обсудить проблему с Роджером, но тот, по словам Бена, действовал «как эгоманьяк». «Мы предлагаем идею, а Роджер говорит: “Сколько альбомов ты записал? Ты еще мальчишка”. И он обращался со мной как с мальчишкой».
Бен поделился проблемой с Голдбергом, и тот с ним согласился. «Я видел, что из этой записи мог бы получиться великолепный альбом, – сказал он мне позже. – Но чего-то еще не хватало». Альбом забрали у Гринауолта и передали двум другим продюсерам, бостонцам Полу Колдери и Шону Слейду, которые записали три новые песни, переписали одну из уже сделанных и пересвели все остальные, добавив побольше гитарного рева, который был отличительным признаком стиля гранж. В процессе этой работы Бен и Роджер перестали разговаривать друг с другом.
Гринауолт рассказывал о бунте Бена с гордостью: «Думаю, это просто великолепно, что Бен пошел против меня. Великолепно. Он был лучшим из всех, кого я учил, и, конечно, рано или поздно он взбунтовался бы. – Он сделал еще один глоток скотча. – Я хорошо его научил. – Последовала еще одна пауза. – Никогда не знаешь, когда встретишь самого умного человека в твоей жизни и сколько ему будет лет. – Он встал и начал рыться в книгах, лежащих над диваном. Гринауолт много времени проводил на этом диване, читая книги старых культурных арбитров. Здесь у него лежала целая стопка книг. Через некоторое время он вытащил большой черный том. – Это Тацит. Вот что я выписал вчера: “Гораздо проще отомстить за обиду, чем отблагодарить за доброту, потому что благодарность считается обузой, а месть – приобретением”». Альбом Radis появился в магазинах весной следующего года и продавался плохо. MTV показал клип группы всего несколько раз. Лейбл Mercury мог бы помочь группе, если бы напряг свой маркетинговый отдел, но тот был занят другим: вторая подростковая группа лейбла, Hanson, успешно двигалась вверх по «большой сети». В конце концов, было продано 5 миллионов копий их первого альбома, а Бен вернулся в «малую сеть» своего родного городка Гринвилл. Потом лейбл отправил ребят в тур по Европе, а по его окончании Radis начал работать над вторым альбомом, акустическим, который должен был продемонстрировать способности Бена как хорошего мелодиста.
– В конце концов, – сказал мне позже Голдберг, когда мы сидели в его кабинете, анализируя инвестиции его лейбла в группы «подросткового бума», – все получилось неплохо для лейбла. Нам даже дали премии к Новому году.
5. Империя побеждает
Когда Тина предложила мне написать о феномене «Звездных войн», я воспринял это как возможность поближе познакомиться с явлением, непосредственно предшествовавшим появлению ноубрау. Сохранив приверженность своему особому взгляду на мир и не побоявшись противоречить боссам больших студий, Джордж Лукас создал нечто, находившееся вне Шума: фильм, который стал неотъемлемой частью жизни людей и даже основой их идентичности. Известны случаи, когда трагически погибал школьник, и газеты печатали некролог, в котором говорилось, что погибший был поклонником «Звездных войн». Но ирония состояла в том, что успех Лукаса все дальше уносил его от того, что прежде всего трогало зрителей его фильмов. Теперь в своем новом фильме Лукас собирался вернуться к первоначальному материалу, который и вдохновил его. Он собирался ставить предысторию трилогии «Звездные войны» – фильм «Эпизод 1: Скрытая угроза», который должен был стать первым фильмом, поставленным им самим после первых «Звездных войн».
Подготовкой моей командировки занималась Кэролайн Грэм, бесценный редактор «Нью-Йоркера» на Западном побережье, – ее Тина привела из Vanity Fair. Главным качеством Кэролайн было ее инстинктивное умение почувствовать размытую грань между элитарной и коммерческой культурами, а также способность перевести явление из области ноубрау «Нью-Йоркер» пытался позаимствовать Шум у «Звездных войн») в старую иерархию высокого и низкого: статья в «Нью-Йоркере» придавала «Звездным войнам» налет элитарности. Кэролайн добилась от Линн Хейл из «Лукас-фильм» обещания, что я смогу приехать на ранчо Скайуокер, центр вселен ной «Звездных войн», но она не гарантировала интервью с Лука сом. Однако у Кэролайн было предчувствие, что если я попаду на ранчо, то смогу взять интервью.
Случилось так, что моя поездка в Северную Калифорнию, где находится Скайуокер, совпала по времени с проходящим раз в два года съездом «Звездных войн» в Сан-Рафаэле. Съезд был возможностью для производителей масок Дарта Вейдера и метровых скульптур Йоды обменяться опытом и сказать «Да пребудет с вами сила!» продавцам из крупных торговых сетей, торгующих их продукцией, а любой сотрудник широко раскинувшейся империи «Звездных войн» мог почувствовать, по словам одного из них, «как глубоко бренд проник в культуру». Некоторые производители атрибутики «Звездных войн» прибыли даже из Австралии и Японии. Тех, кто приезжал на автомобилях к зданию Марин-Каунти-центра в Сан-Рафаэле, встречали парковщики со светящимися и гудящими лазерными мечами, как у Люка Скайуокера. Остальные участники, остановившиеся неподалеку в отеле «Эмбасси», шли к зданию центра днем при свете солнца.
До «Звездных войн» атрибутика использовалась только для продвижения фильмов и не представляла ценности сама по себе. Диснею удалось сделать из своих мультфильмов бренды и продать права на атрибутику, но никому до Лукаса не удалось создать бренд из фильма в стиле экшн. После «Звездных войн» атрибутика фильмов стала самостоятельным бизнесом. Люди смотрели «Звездные войны», им нравились «Звездные войны», и они хотели покупать «Звездные войны» в виде игрушек, игр и книг, а не только билетов в кино. В 1997 году куклы героев «Звездных войн» были самыми продаваемыми в категории «игрушки для мальчиков» и занимали второе место по продажам среди всех категорий, уступая только куклам Барби. Видеоигры, выпускаемые фирмой «Лукас-артс», были самыми продаваемыми, а лицензия на выпуск романов продолжала оставаться самой прибыльной в издательском бизнесе: большинство книг, вышедших начиная с 1991 года, попали в списки бестселлеров «Нью-Йорк таймс». Лукасу удалось сделать больше, чем просто фильм: он создал бренд. «Великие бренды формируют такие отношения между производителем и потребителем, которые становятся залогом будущих доходов», – сказал в интервью газете «Нью-Йорк таймс» Джон Грейс, специалист по брендам. – “Звездные войны” обладают всеми признаками великого бренда наших дней». Под «великим брендом» в данном случае понималось нечто, имевшее значение само по себе и одновременно хорошо продающееся.
Почему зрители стали гоняться за этим брендом во всех его многочисленных вариантах? В чем здесь дело: в культуре или маркетинге? Мне казалось, что между грезой и ее продуктом – между изображением Люка, наблюдающего за двумя заходящими солнцами над планетой Татуин во время размышлений о своей карьере боевого пилота Альянса, и тридцатисантиметровой куклой Люка – происходила любопытная трансформация ценностей культуры в ценности маркетинга. Здесь, на съезде, можно было почувствовать, как эта трансформация выкачивала энергию, с одной стороны, у маркетинга и, с другой стороны, из обычной жизни – культуры – до тех пор, пока граница между ними не исчезла в великолепном летнем небе над Северной Калифорнией.
В пять вечера взвод имперских гвардейцев в сопровождении штурмовой пехоты вышел на сцену, а следом сам Дарт Вейдер в костюме из гардероба «Лукас-фильм». Темный Лорд Сита строго отчитал аудиторию за то, что его не пригласили на саммит, но потом сказал, что это на самом деле и хорошо, потому что он смог провести день на ранчо в компании более важных людей, чем «вы, простые торговцы». В этот момент на сцену поднялся Джордж Лукас.
Лукасу часто устраивают овации, когда он появляется на публике, а в тот день это произошло дважды: когда он поднимался на сцену и когда спускался с нее. Люди аплодировали не только кинематографическому успеху Лукаса, который, начав свою карьеру прямо здесь, в общественном центре Марин-Каунти (он снимал здесь свой первый фильм, мрачную антиутопию ТНХ 1138), потом создал «Звездные войны» и (в соавторстве со Стивеном Спилбергом) «Индиану Джонса», входящие в число самых известных фильмов всех времен и народов, а также вместе с Джоном Милиусом придумал «Апокалипсис сегодня», снятый Фрэнсисом Фордом Копполой. Зрители аплодировали не только успеху Лукаса как бизнесмена – компания Indus rial Light & Magic (ILM), выросшая из мастерской по производству моделей и спецэффектов для первой серии «Звездных войн», превратилась в лучшую в мире студию цифровых эффектов и приложила руку к появлению многих достижений компьютерной графики, включая Киборга из «Терминатора-2», динозавров из «Парка Юрского периода» и эпизод с участием Кеннеди в фильме «Форест Гамп».
Люди аплодировали Лукасу за его уникальный статус с точки зрения ноубрау: он был одновременно великим художником и бизнесменом-миллиардером. Он был подлинным героем «Звездных войн» – художник-бунтарь, покоривший голливудскую империю зла и создавший собственную киноимперию. Для тех, кто глубоко погружен в культуру «Звездных войн», история Лукаса смешивается с историей Люка, причем подлинная история доказывает, что вымышленная в принципе тоже могла иметь место, а вымышленная история придает подлинной дополнительную сверхъестественную значимость. Подобно тому как Люк, живя на захолустной планете Татуин, слушался своего дядю, который хотел, чтобы тот остался на ферме, но мечты его были уже где-то далеко, в большом мире приключений, Лукас рос в захолустном калифорнийском городке Модесто, мечтая стать великим автогонщиком, тогда как его консервативный отец хотел, чтобы сын остался дома и унаследовал семейный бизнес (отец любил унижать сына, каждое лето обрезая ему волосы). Подобно тому как воинственный старший товарищ (Оби-Ван) помог Люку в его битве с отцом, Фрэнсис Форд Коппола принял Лукаса под крыло киношколы при университете Сан-Франциско и помог ему снять первый короткометражный фильм. И подобно тому как в финале первой серии «Звездных войн» мечта Люка исполняется и он становится джедаем, Лукас стал богатым кинематографистом, исполнив обещание, данное им отцу в 1962 году, за два года до того как он уехал из Модесто в Сан-Франциско: «Я стану миллионером раньше, чем мне исполнится тридцать».
На съезде во время перерыва маркетинговая команда из «Хасбро» раздала всем зрителям «лазерные мечи», и при появлении Лукаса на сцене преданные его поклонники подняли мечи и замахали ими. После этого Лукас произнес несколько слов. Стоя на сцене, он странным образом был словно «не в фокусе», находясь в тени своего мифа (его «недостаточное» присутствие также было частью мифа, делая Лукаса кем-то вроде Йоды). Он был невысокий, с небольшим круглым животом, короткой бородой, в черных очках, а голос звучал не слишком мощно.
Когда Лукас закончил выступление, президент «Хасбро» подарил ему тридцатисантиметровую куклу – у нее было тело Оби-Вана Кеноби и голова Джорджа Лукаса. Толпа при этом неистовствовала – как же, кукла Лукаса! Один из участников позже сказал мне: «Как же будут гоняться за ней коллекционеры!». Джордж поднял куклу над головой, а зрители опять замахали своими мечами, приветствуя режиссера.
* * *
Ранчо Скайуокер, штаб-квартира компаний Лукаса, разместилось у подножия холмов Таскон и представляет собой «точную копию» никогда не существовавшего ранчо девятнадцатого века площадью три тысячи акров. Главное строение выглядит снаружи как дом в Пондеросе, но внутри больше напоминает галерею Хантингтон в Сан-Марино, где жил железнодорожный магнат девятнадцатого века Генри Хантингтон. Начиная придумывать свою штаб-квартиру в начале восьмидесятых, Лукас написал рассказ о воображаемом разбойничьем атамане девятнадцатого века, который якобы поселился здесь, уйдя на покой, и построил дом своей мечты. В этом рассказе главный дом в викторианском стиле был построен в 1869 году, конюшня – в 1870-м, деревянное здание библиотеки было добавлено в 1910-м, а каменный дом – в 1911-м. Лукас послал свой рассказ архитекторам, поручив им соответственным образом разработать проект ранчо в стиле, который он назвал «обновленной» архитектурой. На ранчо, как и в «Звездных войнах», Лукас создал новый мир и затем заполнил его несколькими слоями мифической антропологии, чтобы он не выглядел слишком уж новым. Джордж Лукас сделал так, что будущее стало казаться прошлым, и это у него получилось лучше всего. Действие «Звездных войн» разворачивается в футуристическом мире научной фантастики, но в начале фильма сказано, что все это происходило «давным-давно, во время войны в удаленной галактике». В фильме есть по-настоящему великолепные компоненты будущего (межпланетные путешествия, яркие эффекты, отличные машины), но в то же время в нем есть дружба, героизм и другие важные понятия из поп-культурного прошлого (криминальные салуны, лихие парни, зловещая знать, бравые рыцари и чудесные побеги). Здесь ощущается стремление к чему-то, что трудно сформулировать и что всегда ускользает (это чувство напоминает настроение второго фильма Лукаса, «Американские граффити», который сделал ностальгию большим бизнесом), но возникает надежда, что в будущем можно обрести способ вернуть безвозвратно утраченное. Си Эс Льюис описывает похожее чувство в своей книге «Возвращение пилигрима»: «…очень часто повторяющееся ощущение, доминировавшее в моем детстве», нечто вроде «страстного желания… острого и даже болезненного… но вместе с тем каким-то образом и приятного». В отличие от других желаний, пишет Льюис, которые «воспринимаются как приятные, только если их удовлетворение ожидается в скором будущем», это желание сохраняет притягательность «и даже предпочитается всему остальному в мире… даже когда надежды его удовлетворить нет». По мнению Льюиса, необычным в этом желании является то, что оно «нарушает привычные различия между стремлением и обладанием». На съезде «Звездных войн» в Сан-Рафаэле я видел, как это одновременно приятное и печальное желание преобразуется в товар, а здесь, на ранчо, оно, казалось, существует в более чистой форме – как фиктивная история, написанная для людей, которые не помнят своего прошлого и, следовательно, вынуждены заново испытать его – не как фарс, но как ностальгию.
Как и в «Звездных войнах», на ранчо у вас возникает чувство, что некий всевидящий высший разум охватил всю вселенную. Технический корпус с новейшим оборудованием для звукозаписи и монтажа, включая кинозал системы TНX и студию, вмещающую оркестр из ста музыкантов, выглядел как винный завод середины девятнадцатого века в Калифорнии. (Согласно рассказу Лукаса, здание было построено в 1880 году и реставрировано в стиле арт-деко в 1934-м.) Рядом с корпусом росли гроздья винограда пино нуар, шардоне и мерло. Этот вино град поставлялся на винный завод Фрэнсиса Копполы в Напа Вэлли. Конюшни, бейсбольное поле, люди на велосипедах с номерными знаками Скайуокера, газонокосилка и старый радиолокационный маяк выглядели так, словно находились здесь уже не менее ста лет. Лукас спланировал ранчо таким образом, что посетитель из любой его точки мог видеть только одно здание. Несмотря на то что две сотни человек ежедневно приезжали на ранчо, вокруг не было ни одного автомобиля, только велосипеды да иногда машина «Пожарной команды Скайуокера». На ранчо было три подземных гаража, способных вместить одновременно до двух сотен машин.
Стены главного корпуса были облицованы панелями красного дерева, из которого были сделаны старые мосты неподалеку от Ньюпорт-Бич. На них висели картины из принадлежащей Лукасу коллекции работ Нормана Рокуэлла, еще одного неиронического создателя образов Америки, с которым Лукас чувствовал родство. Священнейшие из поддельных реликвий хранились в двух стеклянных витринах в главном фойе: «настоящий» лазерный меч Люка из «Звездных войн» соседствует здесь с хлыстом Индианы Джонса и его дневником, описывающим путь к Священному Граалю. Сам Священный Грааль хранится в Архивном корпусе.
Дважды в неделю Лукас приезжал на ранчо, чтобы управлять делами. Остальное время он проводил преимущественно дома – писал или присматривал за тремя своими детьми. Старшая девочка была удочерена Лукасом и его бывшей женой и монтажером его фильмов, Маршей Лукас (она получила «Оскара» за монтаж «Звездных войн»), младших девочку и мальчика Лукас усыновил уже самостоятельно после развода с Маршей.
Поскольку мой первый приезд на ранчо пришелся на среду – день, когда Лукас сюда обычно не приезжает, – мне сказали, что встреча невозможна. Но когда я осматривал двухэтажную круглую библиотеку с крышей из витражей, отделанную красным деревом (на подоконнике сидела кошка, в камине горел огонь, а над каминной полкой висела картина Максфилда Пэрриша), мне сказали, что Лукас все-таки прибыл и готов встретиться со мной. Меня провели по черной лестнице в полутемный уединенный подвал – словно за кулисы театра, оснащенного по последнему слову техники, – потом в маленькую комнату без окон, набитую оборудованием для монтажа и освещенную только сиянием двух экранов – телевизора и ноутбука. Там сидел великий мистификатор в обычной фланелевой рубашке, джинсах, кроссовках, с часами Swatch на руке. Он поднялся с дивана в темном углу, чтобы пожать мне руку и потом снова окунулся в темноту.
* * *
Кое-кто из друзей Лукаса думал, что ранчо Скайуокер – это попытка восстановить не только легендарное прошлое Америки, но и его прошлое, особенно золотые деньки учебы в Сан-Франциско в шестидесятых, когда Лукас был подающим надежды режиссером, протеже Копполы (они познакомились, когда Лукас был практикантом на фильме Копполы «Радуга Финиана») и другом известных в будущем режиссеров, включая Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе и Брайана Де Палма. Тогда их еще не волновало, как обойти друг друга с очередным блокбастером. («Инопланетянин» и «Парк Юрского периода» обошли по кассовым сборам «Звездные войны», но новые серии «Звездных войн» вернули себе рекорд). Первый фильм Лукаса, ТНХ 1138, был настолько оригинальным по изобразительному решению, что оказался слишком авангардным и не имел коммерческого успеха.
Лукас задумал ранчо как полный комплекс по производству фильмов: свою версию идеальной студии, такой, где, в отличие от Голливуда с его господствующими алчностью и посредственностью, поощрялись бы человеческие ценности и творчество. Хорошо известное презрение Лукаса к моральным принципам и эстетике Голливуда было отчасти унаследовано им от отца – консервативного провинциального бизнесмена, считавшего всех адвокатов и кинодельцов жуликами и называвшего Голливуд не иначе как «Город Греха», а отчасти появилось в результате негативного опыта работы над первыми двумя фильмами, ТНХ 1138 и «Американские граффити». Темные лорды студии «Юниверсал» сочли «Граффити» настолько плохим, что решили не выпускать фильм в прокат вообще, а лишь показать по телевидению. В конце концов, когда Коппола, который только что снял «Крестного отца», предложил купить фильм, студия уступила и выпустила его в прокат в кинотеатрах, но только после того, как Нед Тэнен, тогдашний глава «Юниверсал», самолично вырезал из него четыре с половиной минуты. Это очень расстроило Лукаса, но одновременно преподало ему урок того, что такое власть. Снятый за 775 000 долларов, «Граффити» собрал в прокате почти 120 миллионов.
«Я всегда откровенно не любил тех, у кого власть, боялся и ненавидел взрослых», – говорит Лукас в Skywalking, его биографии, написанной Дейлом Поллаком в 1983 году. Когда успех «Звездных войн» позволил режиссеру «контролировать средства производства», как он любит говорить, цитируя Маркузе, Лукас сам профинансировал вторую и третью части и построил ранчо. Поначалу на ранчо монтировались только фильмы Лукаса: он работал здесь над «Звездными войнами» и контролировал производство картин об Индиане Джонсе. Но уже вскоре работники ранчо стали работать больше над фильмами других режиссеров, чем над фильмами Лукаса. Лукас предложил коллегам полностью оснащенную цифровую студию, в которой можно было писать сценарии, монтировать и микшировать звук, а также компанию ILM, расположенную неподалеку отсюда, в Сан-Рафаэле, для производства специальных эффектов.
Лукас был единственным владельцем своих компаний. Он был по-отечески старомодным председателем совета директоров, который дарил каждому из своих тысячи двухсот сотрудников индейку на День благодарения и который сидел каждый месяц во главе стола из красного дерева в комнате заседаний главного корпуса, слушая доклады президентов различных подразделений его бизнеса.
– Отец объяснял мне многие принципы коммерции – этику провинциального розничного бизнеса, и, думаю, я хорошо их усвоил, – сказал Лукас усталым голосом. – В этом есть своя ирония, потому что в детстве я поклялся, что никогда не буду таким, как он. Когда мне было восемнадцать, мы с ним по-настоящему поссорились из-за того, что он хотел взять меня в свое дело – магазин канцтоваров, – а я отказался и сказал ему: «Есть две вещи, которые я знаю наверняка. Первое – моя работа будет связана с машинами: гонщик, механик или кто-то в этом роде, второе – я никогда не буду директором компании». Получается, я был не прав.
Главное решение Лукаса как бизнесмена – которое в свое время показалось смехотворным боссам компании «Фокс», – состояло в том, чтобы отказаться от дополнительных 500 000 долларов за постановку «Звездных войн», но получить права на съемку продолжения и на продажу атрибутики. Продолжения принесли почти такую же прибыль, как и первый фильм, а ценность бренда, несколько уменьшившись к концу восьмидесятых, стремительно пошла вверх, когда в 1991-м году издательство «Бентам» выпустило книгу «Наследник империи» Тимоти Зана, в которой у принцессы Леа и Хана Соло рождаются дети. Книга потрясла издательский мир, заняв первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк таймс», и маркетологи тут же открыли новое поколение детей, которые никогда не видели фильм в кино, но выросли на его героях и сюжете, ставших частью народной культуры.
Лукас рассказал мне, что перестал сам снимать фильмы, потому что, «когда снимаешь, ты не имеешь полной картины. Нужно сделать шаг назад, стать общей движущей силой проекта, чем-то вроде исполнительного продюсера на телевидении. Как только я начал этим заниматься, меня уносило все дальше и дальше. Потом у меня появилась семья, и это тоже многое изменило. Трудно снимать фильмы, воспитывая детей в одиночку». Потом компания Лукаса стала большим бизнесом. «Все началось со съемок фильмов. Мне нужен был просмотровый зал, потом помещение для постпродукции, потом студия для микширования, для спецэффектов – не забывайте, что я находился в Сан-Франциско. Там нельзя было просто выйти на улицу и найти все, что тебе надо. Пришлось все построить самому. Все в компании зависело от моих интересов, и поначалу это была постоянная борьба. Но шесть лет назад компания начала становиться на ноги. Рынок дисков CD-ROM, которыми мы занимались уже пятнадцать лет, неожиданно начал развиваться, как и цифровые технологии в кинопроизводстве, и вдруг я оказался владельцем крупной компании, и пришлось уделять ей много внимания». Этот великий художник ноубрау подробно описал мне, как он ежедневно распределяет свое время: 35 процентов на семью, 35 процентов на фильмы и 30 процентов на компанию.
В числе основных занятий Лукаса в главном корпусе была работа над сценарием очередной серии «Звездных войн» – пожалуй, самой тщательно написанной историей на Земле, не считая Библии. В отличие от фильма «Стар трек» – серии эпизодов, повествовательно не соединенных между собой, «Звездные войны» – единое повествование, «ограниченная, но расширяющаяся вселенная», говоря словами Тома Дюпре, редактора романов из серии «Звездные войны» в издательстве «Бентам». У каждого сотрудника галактики, создающей сюжет «Звездных войн», был свой экземпляр «Библии» – постоянно разрастающегося канонического текста, разработанного и пополнявшегося специальными редакторами. В нем содержалась хронология всех событий, когда либо происходивших во вселенной «Звездных войн», – во всех фильмах, книгах, дисках, компьютерных играх, комиксах и ролевых играх. Все они были безупречно скоординированы между собой. Например, рассказ Лукаса под названием «Тени империи» стал основой для нескольких сюжетных линий. Вышедший в издательстве «Бентам» роман рассказал о системе ввоза контрабанды, которой руководил злодей принц Зизор. Затем этот принц появился в новой компьютерной игре – я играл в нее с Беном Квеллером в Техасе. Между тем принц Зизор появился еще и в комиксах вместе с другими персонажами, среди которых наемный убийца Боба Фетт, любимец «поколения Икс».
Все новые события, даже происходившие в самых удаленных уголках вселенной «Звездных войн», должны были получить одобрение Лукаса. Специальные редакторы отправляли Лукасу списки возможных событий, и он либо одобрял, либо вычеркивал их. «Когда наше издательство предложило выпустить предысторию Йоды, – рассказал Дюпре, – Джордж сказал, что он категорически против, потому что он хотел, чтобы Йода оставался загадочным персонажем. Но Джордж придумал события между началом четвертого эпизода и концом предыдущего, в которых Хан Соло – это молодой пилот на планете Кореллиа, и мы сейчас над этим работаем». Хотя Лукас когда-то задумал «Звездные войны» как эпопею из девяти частей, он выдал лицензии на продолжение «Джедая» – историю о последних годах Хана, Люка и принцессы Леа, – из чего штатные прорицатели «Звездных войн» сделали вывод, что Лукас не собирается больше сам писать эту часть истории.
– Джордж придумывает сюжеты, а мы создаем места, – сказал Джек Соренсен, президент «Лукас-артс», разъясняя, как его интерактивное подразделение встраивается в структуру мультимедийной империи Лукаса. – Например, вы смотрите фильм, и там на заднем плане какая-то планета, и вы задаете себе вопрос: какая это планета и что она собой представляет? Ясно, что на этой планете много всего происходит. И тогда мы делаем эту планету местом действия игры. В фильме Джорджу приходится все время двигаться дальше, а в играх есть возможность остановиться и рассказать о чем-то подробнее.
Я спросил Соренсена, в чем привлекательность культуры «Звездных войн», и он сказал:
– Для меня это такая же загадка, как и для всех остальных, а ведь я нахожусь прямо в центре процесса. Я часто бываю по работе за границей и встречаю там людей – в Италии или, например, во Франции – которые помешаны на «Звездных войнах». Я недавно познакомился с французом, который сказал, что смотрит фильм каждую неделю. Не думаю, что это какой-то зловещий план производителей атрибутики и маркетологов. Спрос уже существует, и мы просто его удовлетворяем. Он существовал бы и без нас. Не уверен, что это нужно говорить для печати, но, по-моему, «Звездные войны» – это всеобщая нерелигиозная мифология, которая рассказывает, как люди хотят жить. Ведь все люди считают политиков продажными, особенно в Европе, но в глубине души они не циники и хотят верить во что-то чистое, благородное. «Звездные войны» как раз об этом.
* * *
В том, что одним из мотивов Лукаса при написании «Звездных войн» было стремление к массовому успеху, есть некая ирония. Неудача фильма ТНХ 1138, а также отношение к молодому режиссеру в «Ситских подземельях» студии «Юниверсал», показали Лукасу, что он должен снять фильм, который принесет столько денег, что ему уже никогда больше не придется подчиняться приказам студийных боссов. Сила означает следующее: власть, но не ради власти, а ради творческой свободы, которую она дает художнику в ноубрау, где больше нельзя надеяться, что понятие «высшей реальности» из аристократической культуры защитит его от рынка. Лоуренс Каздан, соавтор сценариев «Империи» и «Джедая», а также автор сценария первого фильма про Индиану Джонса, сказал мне, что, по его мнению, «Звездные войны» на самом деле рассказывают об антагонизме к Голливуду. «Рыцарь джедай – это режиссер, который может прийти и воспользоваться Силой, чтобы навязать свою волю студии, – продолжил он. – Помните ту сцену, где Алек Гиннесс использует Силу, чтобы внушить штурмовику кантины Мос Айсли: “Это не те дроиды, которых вы ищете”, и тот спрашивает его: “Это не те дроиды, которых мы ищем?” Точно так же, когда студийный босс говорит “Ты не снимешь этот фильм”, ты отвечаешь ему: “Я сниму этот фильм”, и тогда босс соглашается: “Ты снимешь этот фильм”. Я однажды спросил Лукаса, откуда у него была такая уверенность, чтобы спорить с Недом Тененом. И он ответил: “Ваша сила в том, что вы – творец. Это оказало на меня огромное влияние».
Лукас начал работу над «Звездными войнами» с изучения мифологий разных культур, в которых старался выделить повторяющиеся сюжетные ходы, загадки и моменты, «когда обратной дороги нет». Он взял элементы мифов, найденных в «Золотой ветви», суфийских легендах, «Беовулфе» и Библии, и попытался объединить их в одну эпическую историю. Он рылся в книгах Джозефа Кемпбелла по мифологии и в разных других книгах. Это был такой подход к написанию сценария, в котором главное было найти архетипы, «а потом появятся ум и сердце». В сценарии «Звездных войн» можно за просто наткнуться на названия глав кэмпбелловского «Героя с тысячей лиц»: героя призывают участвовать в приключении, его отказ, помощь сверхъ естественных сил, преодоление первого препятствия, «чрево кита», серия испытаний, заканчивающихся столкновением с суровым отцом, когда, наконец, как пишет Кэмпбелл, «герой… смотрит отцу в глаза, понимает все, и они мирятся». Именно это и происходит в конце «Джедая».
– В университете я два года изучал антропологию, только этим и занимался, – рассказывал Лукас.
Я сидел на раскладном стуле в полутора метрах от него. Сияние пустого телеэкрана освещало лицо режиссера.
– Мифы, истории из других культур. Мне казалось, что в нашем обществе мало мифологии, историй, которые мы рассказываем себе и своим детям, – так передается наследие из поколения в поколение. На Западе это было, но сейчас больше нет Запада. Я хотел найти новую форму. И я посмотрел вокруг себя и попытался выяснить, откуда идет мифология. Она идет от границ общества, именно оттуда, из таинственных мест – из обширного Саргассова моря. И я подумал: хорошо, посмотрим, что можно сделать с этими элементами. Я сложил их все в мешок вместе с «Флэш Гордон» и еще кое-чем, и оттуда выпали «Звездные войны».
Можно рассматривать Лукаса как первого из великих «заимствователей контента» – первого оптового покупателя мировой культуры, который потом продал ее миру в виде «Звездных войн». Или вы можете считать Лукаса пионером семплирования, проложившего дорогу к главному эстетическому открытию ноубрау: созданию искусства из поп-культуры. Подобно Снупу и Бену Квеллеру, Лукас возвысился над старой иерархией. В «Звездных войнах» визуальные цитаты из захватывающих фильмов вроде «Бомбардировщиков» и «Флэш Гордон» легко смешиваются с канонами киношколы. Лазерные мечи рыцарей джедаев были придуманы под влиянием «Тайной крепости» Куросавы, внешний вид С-3РО позаимствован из «Метрополиса» Фрица Ланга, а финальная церемония – из «Триумфа воли» Лени Рифеншталь. Алек Гиннесс представляет несколько более оптимистическую версию его же принца Фейсала из «Лоуренса Аравийского», в то время как Харрисон Форд играет Бутча Кэссиди.
Лукас также хотел, чтобы в его фильме присутствовала старомодная мораль среднего интеллектуального уровня. Он сказал мне, что его намерение при работе над сценарием было подчеркнуто нравоучительным: он хотел, чтобы фильм был не только хорошим развлечением, но и хорошим уроком. «Я хотел сделать традиционную историю с моралью, чтобы в ней были какие-то принципы, понятные детям. Так лучше всего преподавать урок. Откуда берутся такие уроки? Обычно их дает церковь, семья, искусство, а в современном мире их дают фильмы. Любое произведение искусства учит. Занимаясь практически любым делом, ты учишь кого-то независимо от того, понимаешь ли это сам или нет. Некоторые люди не знают, чему они учат. И они должны быть мудрее. Все всегда учат».
На написание тринадцати страниц синопсиса «Звездных войн» у Лукаса ушел год. «Американские граффити» был звуковым коллажем. Новый синопсис был коллажем из повествовательных фрагментов. По словам сценаристки Глории Катц, когда Лукас садился на ковер со своими игрушечными самолетами и начинал говорить об Империи и темной и светлой сторонах Силы или об антропологии Вуки, даже друзья режиссера считали, что он сошел с ума. «Когда дело касалось его проектов, он всегда усматривал в них сквозные сюжетные линии, но в этот раз казалось, что он действительно свихнулся. Что это еще за Вуки, Лукас? Кто такой джедай? Ты что, хочешь снять космическую мыльную оперу?»
– Я подхожу к созданию фильмов с визуальной стороны, – сказал Лукас. – Я делаю динамичные фильмы и стараюсь сосредоточиться на герое, каким он получился в результате монтажа и освещения, а не сюжета. В свое время, когда я учился в киношколе, я был яростным врагом сюжета и характеров, но попал под влияние Фрэнсиса, и он предложил мне после ТНХ 1138попробовать снять более традиционный фильм. И я снял «Американские граффити», но мне сказали, что это всего лишь набор звуков, и тогда я снял «Звездные войны». Я всегда был сторонником чистого кино, я использовал грамматику фильма для создания его содержания. Я мыслю графически, а не линейно.
От съемок «Звездных войн» отказались и «Юниверсал», у которой был опционный контракт на сценарий, и «Юнайтед Артистс». Лишь Алан Лэдд, работавший тогда в кинокомпании «Фокс», решил рискнуть, несмотря на категорические протесты совета директоров компании. Лэдд заплатил Лукасу пятнадцать тысяч долларов, чтобы тот сделал из синопсиса сценарий. Лукас потратил еще год, чтобы написать первую версию. Он писал карандашом номер два мелким, аккуратным до сумасшествия почерком на бумаге в синюю и зеленую линейку с чудовищными ошибками. Поняв, что написал уже слишком много для одного фильма, Лукас разделил сценарий пополам. Из второй части получились первые три серии «Звездных войн».
Ни Лэдд, ни друзья Лукаса не смогли почти ничего понять в первой версии сценария. «Все стало понятно, только когда Джордж поставил свой сценарий в контекст уже снятых фильмов, – рассказал мне Лэдд, сидя в своем офисе в «Парамаунт». – Он говорил что-то вроде: этот эпизод как в «Бомбардировщиках». Единственными героями, с которыми Лукас ощущал внутреннее родство, были дроиды, С-3РО и R2-D2. В каждой версии сценария первые тридцать страниц были посвящены исключительно дроидам, и это напоминало оруэлловское настроение фильма ТНХ 1138. Послушав отзывы друзей, Лукас понял, что люди должны появиться в фильме раньше, чтобы привлечь внимание зрителей. Но диалоги были искусственными и корявыми. «Когда я тебя покинул, я был всего лишь учеником, – говорил Дарт Вейдер Оби-Вану, прежде чем огреть пожилого джентльмена мечом. – Теперь я мастер!». Харрисон Форд повторил мне свой комментарий по поводу диалогов Лукаса: «Джордж, эту ахинею можно написать, но произнести ее точно нельзя».
Когда черновой монтаж фильма был закончен, Лукас устроил просмотр у себя дома. Из Лос-Анджелеса прибыли Спилберг, Лэдд, Де Палма, еще несколько друзей режиссера и боссов с «Фокс». «Марти тоже должен был приехать, – вспомнил в разговоре со мной сценарист Уиллард Хайк, имея в виду Мартина Скорсезе, – но была нелетная погода, и самолет задержали, и он, в конце концов, вернулся домой».
– Итак, мы смотрим фильм, – продолжал Хайк, – и действие расползается, в нем куча предысторий, и вот уже на экране космический корабль, и на нем Дарт Вейдер. Проблема была в том, что практически ни один спецэффект не был завершен, и вместо них Джордж вставил хронику собачьих боев времен Второй мировой войны, и получалось, что вот сейчас ты на корабле с Вуки и тут же попадаешь в «Мосты Токо-Ри». Никто не понимал, что происходит.
Наконец зажегся свет. Некоторые из вежливости зааплодировали. Никто не похвалил режиссера. Это была «ситуация потных ладоней», как позже охарактеризовал ее критик и киносценарист Джей Кокс, также присутствовавший на просмотре.
– Когда фильм закончился, все были в недоумении, – рассказала Глория Катц, жена и соавтор Хайка. – Марша была очень расстроена, она говорила: «О, боже, это как “Наконец пришла любовь”» – был такой фильм Питера Богдановича, который с треском провалился за год до этого. Мы сказали ей: «Тихо ты. Здесь же Лэдд».
На этом первом просмотре «Звездных войн» группа сценаристов, режиссеров и продюсеров – все они мечтали сделать выдающийся голливудский фильм – впервые столкнулись с моделью будущего: фильмом, который тем или иным образом мог поставить крест на их карьерах. Неудивительно, что практически никому фильм не понравился. Даже «Челюсти» Спилберга, вышедшие двумя годами раньше, – первый из современных блокбастеров, – казался соцреализмом по сравнению со «Звездными войнами». В этот момент ноубрау, до того как цунами успеха «большой сети» навсегда накрыло «Звездные войны», эти люди увидели фильм таким, каким он был: с героями из комиксов, с неправдоподобным сюжетом, с полным отсутствием всякой социальной или политической позиции, с плохой игрой актеров, нелепыми диалогами и смехотворной примитивной моралью – они увидели не слишком хороший фильм.
Вот что рассказал Хайк:
– Потом мы все вышли, сели в машины и поехали куда-то ужинать, и в той машине, где ехал я, все говорили: «Боже мой, какой провал!». Все, кроме Стивена, который сказал: «Нет, этот фильм соберет сто миллионов долларов, и я скажу вам почему: в нем есть очаровательная невинность и наивность, и в этом весь Джордж. Зрителям это понравится». И все обратили внимание на его слова, но, конечно, никто ему не поверил.
Катц добавила:
– Мы сели за стол в ресторане, и Брайан начал смеяться над фильмом. Он был очень язвительным и саркастичным.
– Брайан всегда был таким, – продолжал Хайк. – Он говорил что-то вроде: «Эй, Джордж, почему в ушах у принцессы эти датские рогалики?». Мы сидели как на иголках, пока Брайан доставал Джорджа, а тот все глубже тонул в своем кресле. Брайан был довольно-таки груб. Может быть, Марша никогда его за это не простила.
Когда фильм вышел на экраны, Хайк, Катц, Джордж и Марша сбежали на Гавайи. Хайк вспоминает:
– На второй день пребывания там Лэдд позвонил мне и сказал: «Включи вечерние новости». Я спросил зачем. Он ответил: «Включи и все поймешь». Мы включили телевизор, и там Уолтер Кронкайт рассказывал: «Здесь происходит что-то невероятное, и причина – новый фильм “Звездные войны”». Потом камера показала очереди на Манхэттене длиной в целый квартал. Непостижимо. Мы были ошеломлены. Сейчас, конечно, студия может точно сказать заранее, как зрители примут фильм, – это стало настоящей наукой. Они теперь действительно могут предсказать результат в первый уикенд. А тогда они еще этого не могли.
Но ирония ситуации со «Звездными войнами» в том, что благодаря его успеху столь же свежий и наив ный фильм просто не мог бы появиться двадцать лет спустя. «Звездные войны» раз и навсегда показали боссам студий, что фильмы имеют слишком большую потенциальную ценность, чтобы отдать контроль над ними режиссерам. Хайк выразил это так: «Трюффо считал, что сама идея фильма пришла в упадок после картин о Джеймсе Бонде, и, по-моему, то же самое можно сказать о “Звездных войнах”, хотя нельзя винить в этом Джорджа. “Звездные войны” сделали кино большим бизнесом, в результате студийное начальство стало вмешиваться на каждом этапе производства фильма, вплоть до того, что боссы присутствуют на съемках и критикуют решения режиссера. Сейчас все они заканчивают сценарные факультеты кино школ и думают, что знают все о кино, их претензии всегда одни и те же. И “Американские граффити”, и “Звездные войны” с трудом пробились бы на экран при существующей сегодня системе. Какой-нибудь босс досмотрел бы фильм до момента, где выясняется, что Дарт Вейдер – отец Люка, и сказал бы: что за ерунда?»
Первая серия «Звездных войн» – своего рода метафора бешеной скорости. Если вы видели фильм в молодости, то вам запомнилось именно это: ощущение, что все движется очень быстро. Пожалуй, самая запоминающаяся картинка из фильма – это первый полет «Миллениум Фалкон»: расплывающиеся очертания звезд, проносящихся мимо кабины космического корабля. Подобно другим эффектам в фильме, эпизод производит впечатление не из-за технологии (здесь используется достаточно примитивный прием – смазанный фокус), а потому, что это мощное графическое выражение главного ощущения от всего фильма: образ чистой кинетической энергии, который стал необходимой частью визуального воображения в современном мире.
Но сегодня, как говорит Лоуренс Каздан, «слово “герой” может всплыть на встрече с продюсерами, однако, если вы их спросите, они не смогут объяснить, что это такое. Повествовательной структуры больше не существует, главное теперь – что случится в ближайшие десять минут, чтобы зритель не потерял интереса к фильму. Это значит, что больше не существует доверия к аудитории и поэтому сюжет не может быть слишком медленным». Каждый раз, когда продюсер говорит сценаристу, что в его пронзительной и искренней истории каждые десять минут нужен «элемент экшна», сценарист может сказать за это спасибо Джорджу Лукасу.
* * *
Один из уроков «Звездных войн» в том, что друзья, которые помогают друг другу и действуют смело, могут противостоять любой технологии, деньгам и власти Империи. В конце первого фильма Люк, получив последний шанс запустить реактивный снаряд в наиболее уязвимое место Смертельной Звезды (уничтожить реактор и спасти Альянс от разрушения), слышит, как Оби-Ван советует ему отключить компьютерную наводку на цель и вместо этого положиться на Силу: «Доверься Силе, Люк».
Надо заметить, что ситуация в «Лукас-артс» оказалась гораздо сложнее, чем это могло бы показаться по сериям фильма «Звездные войны». Торжествующий рывок к новой технологии был тоже своего рода силой. Технология, позволяющая создавать невиданные ранее изображения, вызвала желание делать еще более удивительные вещи, что делало саму технологию все более и более могущественной, а людей, сидящих за компьютерами, соответственно, менее значительными. И сила бизнеса была не в том, чтобы служить человеческим ценностям или делать хорошие фильмы. Лукас великодушно открыл дверь бизнесу в новый мир ошеломляющих цифровых спецэффектов, но его успех в этом мире ударил по представлению, что люди сильнее машин.
Подобно другим журналистам, направленным на «Смертельную звезду», каковой являются «Звездные войны», я начал чувствовать, что и сам становлюсь частью машины. Здесь, во время короткого интервью с Джорджем Лукасом, моя журналистская свобода была ограничена, как никогда раньше, и единственным моим утешением было то, что собственная свобода Джорджа Лукаса была не менее ограничена. Даже голос старых ценностей «Нью-Йоркера», Орвилл Шелл – декан Школы журналистики в Беркли (и отец Джонатана Шелла, бывшего когда-то совестью «Нью-Йоркера»), – заявил по поводу хвалебной статьи о Джордже Лукасе в «Нью-Йорк Таймс»: «Они журналиста и на порог не пустят, если он им не понравится. Это теперь в порядке вещей».
Взявшись за статью о «Звездных войнах», я стал частью индустрии Шума в гораздо большей степени, чем раньше. Конечно, учитывая, что я представлял «Нью-Йоркер», все приличия были соблюдены на высочайшем уровне, но, как только «Лукас-фильм» впустил меня к себе, мои возможности значительно сузились. Джамайка Кинкейд заявила в одном из своих критических комментариев о Тине: «Она пользуется услугами людей, считающих себя журналистами, но то, что они пишут, – это рекламный текст». Я надеялся, что это было преувеличением, но нельзя было отрицать, что на каком-то уровне существовала договоренность. Отношения между брендом «Нью-Йоркер» и брендом «Звездные войны» развивались, и журнал был заинтересован в этом. И было не слишком приятно ощущать себя частью этих отношений.
* * *
О фильме «Годзилла» говорили, что маркетинговая кампания была лучше самой картины. Но в атмосфере ажиотажа, предшествовавшего выходу «Скрытой угрозы», маркетинг и фильм слились в единое целое. Я захожу в супермаркет за молоком и вижу, что «Звездные войны» заняли пятый ряд, где раньше были молочные продукты. Там стоят чашки с Ханом Соло и принцессой Леа, двадцатисантиметровые фигуры императора Палпатина, контейнер R2-D2 с пепси «Скрытая угроза», а рядом большая витрина с чипсами «Фрито-Лейс», на упаковке которых рисунки на тему «Звездных войн». «Пепси» потратила более двух миллиардов долларов на продвижение новой трилогии. Все три фаст-фуд-сети, принадлежащие «Пепси», – «Кентакки-Фрайд-Чикен», «Тако-Белл» и «Пицца-Хат» – получили по планете и поместили ее жителей на свою посуду. Маркетинг – это культура, а культура – это маркетинг. С точки зрения Шума, место, которое маркетинг «Звездных войн» занимает в культуре, – это легализация для поклонников фильма предмета их увлечения, своего рода дивиденд за их инвестицию, подобно тому, как, хотя и в меньшей степени, маркетинг стиля жизни белых англосаксов, осуществляемый Ральфом Лореном, – это легализация моей культуры «богатого студента». «Звездные войны» – это и товар, который можно купить (маркетинг), и то, чем можно стать (культура), купив его: фанатом «Звездных войн».
Перемещаясь на взятой напрокат машине по необъятной вселенной «Звездных войн», я познакомился в маленьком городке Эль-Кахун, расположенном в пустыне в получасе езды от Сан-Диего, с парнем по имени Лэнс. Он стоял за прилавком в своем магазине атрибутики «Звездных войн» в торговом центре напротив кинотеатра, где шли «Звездные войны». Подобно другим из встреченных мной людей, чья идентичность была инвестирована в «Звездные войны», первые воспоминания Лэнса о фильме были связаны с семьей. В одиннадцать лет он заметил у отца майку с надписью «Звездные войны», потом отец сделал ему «лазерный меч», и это стало настоящим событием. Скоро Лэнс стал коллекционером атрибутики «Звездных войн». «Я был тогда немного странным парнем. Например, постоянно мыл руки. Или моя комната – в ней был или полный порядок, или абсолютный беспорядок. А “Звездные войны” дали мне в жизни какую-то цель». Лэнс вспоминает, что его родители разошлись между первым фильмом и «Империей», а между «Империей» и «Джедаем» он потерял невинность. После школы он решил уехать со своей семейной фермы в штате Небраска и отправиться в большой мир – в Калифорнию. Он упаковал всю свою коллекцию «Звездных войн» – она заняла целый микроавтобус – и поехал в Калифорнию на поиски своей судьбы. Он женился, нашел работу в магазине игрушек, но его уволили, и все, с чем он остался, – была его коллекция. Теща посоветовала открыть свой магазин, что он и сделал.
Когда мы разговаривали, по видео шла «Империя». Действие приближалось к известной сцене, в которой Дарт сообщает Люку, что он его отец, и уговаривает перейти на темную сторону. Из телевизора донесся шум лазерных мечей. Глубоким басом Джеймса Эрла Джонса отец Люка произнес: «Если бы ты только знал силу темной стороны». (В который раз Лэнс повторял за ним эти слова.) «Малая сеть» (Лэнс и его семья) и «большая сеть» (Дарт и Люк), казалось, слились воедино в этом магазине.
Лэнс рассказал мне, что ежедневно показывает трилогию в своем магазине. Он сам видел «Звездные войны» около двух тысяч раз. В прошлом году, в единственный день, когда он не был в своем магазине – на Рождество, – трилогию показывали по телевизору, и он снова посмотрел ее со своими родственниками.
Среди самых преданных фанатов «Звездных войн», встреченных мной, были люди, работающие на «Лукас-фильм». Чаще всего это делало их отличными служащими, потому что успешная работа над «Звездными войнами» означала, что уроки фильма хорошо усваиваются. Клинт Янг, программист, работавший над новой версией игры «Рыцарь джедай», с которым я познакомился на «Лукас-артс», рассказал мне, что стал преданным фанатом «Звездных войн» в шесть лет. «Я вырос на ферме, и поэтому у меня было много общего с историей Люка, который родился с мечтой о чем-то большем, чем то, что происходило вокруг него». Увидев «Звездные войны» в первый раз на видео, Клинт начал рисовать картинки из фильма – так он стал художником. Он посмотрел кассету с фильмом больше ста раз. «Дедушка спрашивал меня: “Что ты делаешь, почему смотришь эти фильмы?”. И я отвечал: “Это же круто”». Год назад, когда выездная команда рекрутеров «Лукас-артс» приехала в университет в Техасе, где учился Клинт, они увидели его рисунки «Звездных войн» и предложили работу. «Я вижу много параллелей между “Звездными войнами” и моей жизнью», – продолжал Клинт. – Я был первым членом своей семьи, который вырвался из Далласа, как и Люк вырвался с планеты Татуин, и я чувствую, что быть здесь – это мое предназначение». До этого момента предназначение Клинта состояло в том, чтобы делать «полигоналы» – полигональные структуры: базовые элементы компьютерной графики. Ему понравилось работать над игрой «Рыцарь джедай», обеспечивающей тем, кто умеет пользоваться Силой, доступ к новым уровням игры. «Если вы воспользуетесь темной стороной Силы, у вас будет больше возможностей, но потом в игре вы уже не сможете воспользоваться светлой стороной, например повышенной прыгучестью и способностью к исцелению».
В подвале «Лукас-артс» молодые фанаты «Звездных войн» сидели, уставившись в компьютерные мониторы, и занимались полигоналами, тестированием бета-версий программ и прочей рутинной, трудоемкой работой. Цементные полы покрывал грязный ковер, естественного света не было, в разделенном на отсеки помещении среди больших компьютеров и рекламной продукции «Звездных войн» сидели молодые ребята. Здесь я встретил и девушку – жертву «кистевого туннельного синдрома», левая рука которой была забинтована, но она все-таки могла пальцами стучать по клавиатуре при тестировании бета-версии новой компьютерной игры «Приключения Хэрка» на наличие ошибок. Она сказала мне, что это ее первый день «на игре» и что она будет играть в нее каждый день в течение двух месяцев, чтобы убедиться, что ни одна комбинация клавиш и ни один щелчок мыши не вырубят программу.
– Если только не сгорю раньше, – сказала она равнодушно, не отрываясь от игры.
– Что значит «сгорю»? – спросил я, наблюдая, как Хэрк – не слишком подвижный для компьютерной игры, но все же довольно прыгучий – преодолевал на экране разнообразные препятствия.
– Сгореть – это значит перестать понимать, что происходит на экране, или начать реагировать замедленно. Короче, оказаться вне игры.
* * *
На ранчо Скайуокер легко можно было представить себе, что будущее, в конце концов, спасет наше прошлое и на новой границе между ними мы найдем то, что потеряли давным-давно, в другой галактике, далеко-далеко отсюда. Но в цехе моделей ILM в Сан-Рафаэле в это было трудно поверить. Все чудовища, ракеты, оружие и спецэффекты первой серии «Звездных войн» были сделаны в этом цехе – в основном вручную – командой плотников, инженеров, жестянщиков и конструкторов, подобранной Лукасом. Они использовали глину, резину, пенопласт, латекс, проволоку и двухметровые ворсистые костюмы Вуки для создания иллюзий. (Во время съемок первого фильма «Звездных войн» компьютеры использовались только для контроля за движением камеры.) Создатели моделей оказались настолько хорошими профессионалами своего дела, что спровоцировали стремление ко все более совершенным спецэффектам в кино, а в результате многие из них остались без работы.
Сам цех сохранился в основном потому, что съемочные группы с канала Entertainment Tonight захотели снять что-нибудь более «визуальное», чем то, что могли предложить компьютерщики, сидящие за мониторами и создающие спецэффекты. Модельный цех с его чудищами, призраками и сумасшедшими машинами, использованными в фильмах вроде «Охотники за привидениями» и «Назад в будущее», производили сильное впечатление. Когда я зашел в цех, двое плотников работали над C-3PO, голова, руки и ноги которого были разложены по верстакам; он выглядел так, словно с ним расправились «песочные люди», и я наивно спросил, появится ли он в следующих фильмах. Оказалось, что это был всего лишь обычный прототип, который, скорее всего, окончит свои дни в каком-нибудь супермаркете, где будет рекламировать пепси.
Пол Хастон, ветеран модельного цеха, нарисовал картины на холсте для первой серии «Звездных войн» и цифровые картины для «Специальной версии». Он показал мне свои цифровые добавления к «Специальной версии» перед и после сцены в Мос Айсли. ILM вставил компьютерного Джаббу Хатта в эпизод, где тот нападает на Хана Соло на стартовой площадке, у корабля «Миллениум Фалкон». (В 1976 году этот эпизод уже был снят, и Форд в нем играл в паре с актером, одетым в костюм Джаббы Хатта, но получилось не слишком хорошо, и в картину эпизод не вошел.) Чтобы сделать разбившийся корабль, стоящий на заднем плане в космопорту Мос Айсли, Хастон собрал его настоящую модель из наборов для склеивания самолетов и вертолетов, вынес на улицу и сфотографировал при естественном свете. Потом он сканировал изображение и доработал его в фотошопе. Клинт Янг сделал бы разбившийся корабль с нуля на компьютере.
– Для меня, – сказал Хастон, – имеет значение, где искать свою реальность: в компьютере или в окружающем мире. – Мы стояли в затемненной комнате компьютерной графики, и он махнул рукой в сторону далеких Маринских холмов, освещенных солнцем. – Я все же думаю, что эта реальность не в компьютере, а там. – Он снова повернулся к изображению космопорта на экране. – Видите, как свет отражается от крыши башни и как эти тени здесь становятся более глубокими, хотя они скорее должны стать более легкими. Нечего и думать о том, чтобы сделать такое на компьютере.
Хастон с грустными глазами за стеклами очков в металлической оправе казался довольно меланхоличным человеком. Он сказал, что тиранозавры в «Парке Юрского периода», сделанные с помощью компьютерной графики, – это шаг в будущее и что компьютерные эффекты во многих случаях лучше традиционных макетов и кукол. Например, лава вулкана никогда не будет по-настоящему сиять на модели, а на компьютере сделать это очень просто. Кроме того, компьютерная графика позволяет сэкономить много времени. «Те навыки, которые были нужны десять лет назад, чтобы строить модели и рисовать декорации, было очень сложно приобрести, – сказал Хастон. – Модели делались методом проб и ошибок. Книг про то, как это делать, не существовало. Все основывалось на интуиции. Сегодня, когда есть компьютеры, можно купить специальную программу, к ней будет прилагаться инструкция, и все можно будет делать по ней».
Хастон показал на мониторы, сканеры и прочее оборудование. «Наша компания заняла такую позицию, что компьютер – это будущее, и мы упорно движемся в этом направлении, – сказал он. – Я понимаю, этого хотят все. При изготовлении моделей есть не слишком много способов ускорить работу. А это ведь бизнес, и здесь нужна прибыль, и существуют сроки, и надо стараться сделать как можно больше. Если можно что-то сделать на компьютере и это будет стоить сто пятьдесят тысяч долларов, клиент скажет: “Да, конечно, делайте на компьютере”. Но если вы предложите сделать обычную модель в три раза дешевле, никто не захочет. Потому что это не то, в чем заинтересованы клиенты. Поэтому мы пытаемся делать все на компьютере, чтобы понять, как далеко мы можем зайти».
* * *
Если посмотреть на историю «Звездных войн»в хронологическом порядке, это будет история не о Люке, а о его отце Анакине Скайуокере и о том, как он, рыцарь джедай, был соблазнен темной стороной Силы и превратился в Дарта Вейдера. Когда я спросил Лукаса, в чем главная идея «Звездных войн», он ответил: «Искупление. Сценарии, которые я заканчиваю сейчас, гораздо более мрачные, чем первые три, потому что все они о падении человека. Первый фильм был довольно невинным, но после него все становится серьезнее, потому что это трагическая история, она – его неотъемлемая часть».
Невинность – это то, что многим людям показалось таким важным в первой серии «Звездных войн». Но был ли сам Лукас настолько невинным? И если подумать об этом, все выглядит довольно жутко: Джордж Лукас, восстанавливая старые ценности для детей, идя за своей наивной детской музой и сохраняя при этом верность своим корням, берущим начало в контркультуре шестидесятых, заработал больше денег на правах на атрибутику фильма, чем кто-либо другой.
Я чувствовал, что-то в этой темной комнате было настоящей Силой: обманчивая надежда на финансовую независимость, которая, в конце концов, начинает контролировать тебя. Ощущение утраты в голосе, звучащем в темноте. Меланхолия, чувство, которое в трилогии «Звездные войны» не слишком часто просачивалось на экран, но присутствовало здесь, на заднем плане, как остатки синих экранов в «Империи», в тонких контурах, окружавших имперских гонцов на ледяной планете Хот.
Задумывался ли Лукас, что сам переходит на темную сторону – сторону маркетинга? Может быть, это происходило медленно и постепенно, и соблазн был в том, чтобы перестать снимать фильмы и начать делать игрушки, и все было хорошо до того момента, когда ты однажды проснулся и понял, что превратился в одну из своих игрушек. Это заметно уже в «Джедае»: Ивоки, эти очаровательные пушистые создания, казалось, были сделаны специально для магазина игрушек еще до того, как помогли Люку победить Империю. «Скрытая угроза» – попытка Лукаса-режиссера вернуть себе невинность – многим критикам показалась кошмарным триумфом Лукаса-кукольного мастера.
– Конечно, взгляды меняются, когда становишься старше и жизнь тебя ломает, – сказал Лукас.
– Вас ломала жизнь? – спросил я.
– Она ломает всех. Ничего не бывает просто так.
Я поверил ему. В конце концов, он был Люк и, подобно Люку, вынужден был считаться с доминированием отца. (Дарт: «Будь со мной, Люк, и вместе мы сможем управлять галактикой как отец и сын!») Подобно тому как Люк вынужден был мириться с качествами, унаследованными от отца, так и Лукас в своей карьере после «Звездных войн» превратился в успешного, консервативного в финансовых вопросах бизнесмена, как этого всегда хотел его отец. Вместо того чтобы получить независимость, после успеха «Звездных войн» он ее потерял. В этом и был настоящий урок фильма: в конце концов, империя побеждает.
6. Воскресенье в Сохо
Я живу в нижней части Манхэттена. В начале восьмидесятых я жил в Ист-Виллидж, а в конце восьмидесятых – в Вест-Виллидж. Но Сохо всегда было осью, вокруг которой вращалось мое понимание центра города. Сохо: выйти на улицу после выставки Баскиа и Уорхола в галерее Тони Шафрази, кто-то предложит: «Пойдемте в “Одеон” перекусим», а потом – в «ночь ярких огней большого города».
Но когда мне пришла пора покупать квартиру, Сохо был уже слишком отвратителен, слишком изуродован коммерцией. Проводить выходные вместе с толпами, приезжающими сюда в поисках статуса, – нет, не таким я представлял себе свой дом. В конце концов, я нашел квартиру в Трайбеке, где по-своему пытаюсь сделать настоящее похожим на прошлое. Для меня Трайбека – это все равно что Сохо до того, как его захватили деньги.
И все же я гуляю по Сохо два или три раза в неделю. Обычно у меня в уме составлен маршрут: купить продукты в Gourmet Garage, посмотреть одежду в магазинах «Хельмут Ланг» или «Аньес Би» или сходить на выставку в галерее, хотя в последнее время я это делаю редко. В Сохо можно много чего купить: модные солнечные очки, «настоящую» индонезийскую мебель, съедобные цветы, мыло высококачественного дизайна, ножницы «Клисс Тач» за сто долларов и мобильные телефоны, мобильные телефоны, мобильные телефоны. Люди выходят и заходят в магазины обуви, ювелирные магазины, магазин Дэвида Цвирнера (стоп, не тот ли это парень, который играет в сериале «Друзья»?). И обувь, и украшения, и картины мало чем отличаются друг от друга. Это тоже ноубрау – пространство между знакомыми категориями «низкой» и «высокой» культуры. В ноубрау картины Ван Гога и Моне висят в отеле Bellagio, а Cirque du Soleil использует элементы перформанса для создания представлений в стиле Лас-Вегаса. В ноубрау художники выставляются в супермаркете, музеи наполнены телеэкранами, а саундтрек к «Титанику» не только становится самым продаваемым альбомом в категории «классика», но и поддерживает умирающую индустрию классической музыки.
Сегодня воскресенье, чудесный сентябрьский день, и формальная цель моей прогулки в Сохо – купить свежих помидоров в магазине «Дин и Де-Лука» на углу Бродвея и Принс-стрит. Я перехожу Франклин-стрит, на которой много старых, не тронутых временем лофтов с большими грязными окнами. В них, похоже, живут настоящие аборигены Трайбеки, те, кто в семидесятые годы сбежал от коммерциализации Сохо, чтобы поселиться на здешних чердаках.
На Бродвее я поворачиваю налево и иду в сторону Верхнего Манхэттена. За Кэнал-стрит продают изготовленные тут же китайские ткани в рулонах, только оптом. На другой стороне улицы ткань превращается в майки, джинсы и шорты, наскоро сшитые в подпольных цехах, которые потом продаются здесь же по «восемьдоллароввосемьдолларов» или «десятьдолларовдесятьдолларов». Потом на той стороне Гранд-стрит начинаются хип-хоп-магазины. В этих магазинах тоже продаются майки, шорты и джинсы, но к ним имеется важное добавление – бренд. Покупая рубашку, вы покупаете бренд, который станет частью вашей индивидуальности в людском водовороте Бродвея. Бренд создается из коммерческой торговой марки, к ней добавляется мотив той субкультуры, к которой вы принадлежите или хотите принадлежать, – серфинг, скейтбординг и так далее, но в этих магазинах основной мотив – хип-хоп. Бренд – это плата за вступление в субкультуру. Это и не маркетинг, и не культура. Это катализатор, платиновая нить, которая связывает культуру и маркетинг.
Подростковые бренды, такие как Porn Star, Triple Five Soul и Exsto, конкурируют между собой за внимание тех, кому не больше тринадцати лет. Стиль магазина Yellow Rat Bastard для брендов другого типа. Он напоминает винную лавку или дешевый отель и предназначен для тех, кому мало одной лишь одежды, а хочется погрузиться в совершенно новую городскую идентичность. Довольно-таки зловещее использование группой Wu-Tang Clan атрибутики из фильмов о кун-фу семидесятых годов просочилось в логотипы многих брендов. Когда я дохожу до Ac ive Warehouse, где у продавцов на головах наушники футуристического дизайна, кажется, что я попал в клип Паффа Дедди.
Эта нижняя треть иерархии брендов заканчивается магазином Old Navy, который преобразует самые причудливые модели из хип-хоп-магазинов в хорошо продаваемый мейнстрим. В районе Спринг «низкие» бренды сменяются «средними» – Guess, Banana Republic, Club Monaco. На Принс-стрит есть даже магазин Victoria’s Secret. Все эти магазины продают примерно то же, что и расположенные ниже Спринг, – такие же джинсы и майки, но качество и покрой здесь лучше и цены выше.
Несколько модных бутиков недавно открылись к западу отсюда – на Грин-стрит и Вустер-стрит: Louis Vuitton, Helmut Lang, Costume National и Prada. Здесь одежда еще дороже, а материал и покрой еще лучше. Но изучающему ноубрау стоит заметить, что иерархия цены не есть иерархия стиля. Чаще всего именно «низкие» бренды влияют на «высокие», а не наоборот. Было время, когда компании массового рынка, например Gap, копировали высокий стиль элитарных дизайнеров вроде Хельмута Ланга, продавая упрощенные версии дизайнерской одежды гораздо дешевле оригиналов. А сейчас, напротив, в магазинах Хельмута Ланга можно найти модели, скопированные с тех, что продаются в магазинах «низких» и «средних» брендов, хотя они сшиты из лучших материалов и покрой настолько дорог, что большинство из них стоит в четыре раза дороже, чем, например, в Old Navy. Но стиль тот же самый, что и в Old Navy , – те же хлопковые майки, широкие штаны, вельветовые джинсы. Но тот факт, что они такие же, как в Old Navy, и делает их особенными.
* * *
Отклонившись от маршрута, я захожу в магазин Хельмута Ланга, где майки и вытертые джинсы висят рядом с костюмами по 1700 долларов. Наверняка отличить женскую одежду от мужской можно только по цвету вешалки. В некоторых вещах Хельмут, похоже, обогнал Gap – его модели больше похожи на то, что продается в секонд-хендах. Все, с чем я боролся в детстве в своем гардеробе, стремясь к неформальному виду, присутствует здесь, словно воссоздавая мой идеальный антигардероб.
Когда я зашел в магазин, в нем играла песня Оливии Ньютон-Джон семидесятых годов – Have You Never Been Mellow? Когда эта песня только появилась, она мне не нравилась, но сейчас, в магазине Хельмута Ланга, она слушается с удовольствием. Я слышу, как рядом со мной девушка говорит своему парню: «Обожаю эту песню».
Подобно тому как кантри-рок, который я слушал в семидесятые, вернулся в девяностые в альтернативном звучании таких групп, как Wilco или Elf Power, и вернулся более похожим на искусство, чем на поп-музыку, неформальная одежда, которую я носил в те же годы, стараясь убежать от отцовского стиля, вернулась в форме высокой моды – в майках и вельветовых брюках от Хельмута Ланга. Я останавливаюсь у синей майки из тонкого трикотажа, она кажется очень гладкой на ощупь. Я смотрю на цену – 200 долларов.
Оливию Ньютон-Джон сменила песня группы The Smiths, одна из лучших – Reel Around the Fountain:
Пятнадцать минут с тобой, Нет, я бы не отказался.– Извините, как стирать такую майку? – спрашиваю я продавщицу.
– Лучше ее не стирать вообще, – отвечает она. – Знаю, это звучит ужасно, но она быстро потеряет цвет.
Хм-м. Нельзя стирать. Это аргумент. И все же. Что это значит? Наверно, ее можно сдавать в химчистку.
Я захожу в примерочную, похожую на скульптуры Ричарда Серра: массивную и брутально элегантную. Маньяк-модник, вселившийся в меня в восьмидесятые, снова просыпается и шепчет: «Купи ее. Давай же, купи ее. Она тебе нравится. В ней ты сможешь быть частью хип-хоп-культуры на Бродвее, и никто, кроме тебя, не будет об этом знать. Ты же платишь 200 долларов за рубашку, так почему не за платить столько же за майку, которую ты будешь носить намного дольше? И в отличие от сорочки никто не будет знать, что она стоит 200 долларов, кроме тебя, а значит, ты не будешь чувствовать вину за свой консьюмеризм. Ты будешь скрытым консьюмеристом, а это гораздо лучше. Это – антистатус, еще один важный принцип ноубрау».
Я примеряю майку. Она мне в самый раз. И смотрится отлично. Майка высокой моды, которая вы глядит совершенно обычно. Я снимаю ее и выхожу из примерочной. Подходя к красивой высокой девушке за прилавком, я еще не знаю, что буду делать. Маньяк-модник любит превращать любую покупку в дзен.
Я слышу свой голос: «Спасибо, но, думаю, я не готов заплатить двести долларов за майку».
Я улыбаюсь продавщице и иду к выходу, чувствуя себя победителем.
* * *
В 1980 году «Нью-Йоркер» опубликовал эссе Барбары Такман «Падение качества», в котором та в максимально спокойном и выдержанном стиле объясняла, почему нужно стремиться к элитарности. «Меня занимает вопрос, почему недорогие вещи обязательно уродливы, а идя по дешевому сетевому универмагу, ты неизменно испытываешь дискомфорт на эстетическом уровне», – написала Такман в своем эссе. На самом деле, ответ достаточно прост: по мере того как старые стандарты ремесла и качества заменялись рыночными стандартами, ориентированными на массы, неизбежным результатом становились падение качества, усредненность и общая уродливость. Конечно, вещи ручной работы, изготовленные мастером, которого волнует его работа (чей стимул изготовления вещи не является чисто утилитарным), будут обладать тем качеством, которого вещи машинного производства никогда не достигнут. После некоторых размышлений Такман сделала вывод, что «качество несомненно, хотя и не безусловно, характеризует общественный класс – не его подлинную сущность, а, скорее, материальное положение». Сторонники элитарности повсюду вздохнули с облегчением.
Двадцать лет спустя у меня есть причины подозревать, что «обстоятельства», о которых пишет Такман, изменились. Собственно говоря, в искусстве – как прикладном, так и «высоком» – качество, когда-то бывшее достоянием избранных, медленно и неизбежно стало доступно большинству. По тем же причинам, по которым раньше ругали одежду и мебель массового производства – уровень качества и дизайна, – теперь хвалят массовых производителей, таких как Old Navy, Banana Republic, Crate and Barrel или Pottery Barn. Зачем покупать мебель в Herman Miller или Knoll, если можно приобрести тот же современный дизайн и приличное качество в IKEA в несколько раз дешевле, а кроме того, имея возможность положить свою покупку в багажник машины? Качество больше не связано с ценой напрямую, по крайней мере в одежде и мебели. Качество массового производства повысилось. Современный дизайн проник в низшие ценовые сегменты. Качество и дизайн товаров, продающихся сегодня в Nine West, Banana Republic или Pottery Barn, несравнимо лучше качества товаров, вызвавших в конце семидесятых эстетический шок у Такман в дешевых универмагах вроде Korvette’s, Pier I или Kmart. Верно, что такие сетевые магазины создают стандартизированный стиль, но верно и то, что хороший дизайн товаров стимулирует интерес к хорошему дизайну вообще, благодаря чему более образованные покупатели идут в небольшие независимые магазины.
Но если старый тотем элитарной культуры – качество, доступное раньше лишь благодаря магическому триумвирату компонентов статуса: знанию, времени и деньгам, – стал массовым продуктом, доступным практически всем, то элита не может больше отличаться от масс своим «открытым» консьюмеризмом. Если все модели копируются и продаются гораздо дешевле, как, например, подделки под сумки от Prada и Louis Vuitton на Кэнал-стрит, то обладатели настоящих сумок от Prada и Louis Vuitton вынуждены довольствоваться «скрытым» консьюмеризмом: внутренней гордостью за то, что их сумка – не подделка, хотя лишь немногие знатоки смогут это определить.
Торстайн Веблен посмеивался над богатыми за их страсть к вещам ручной работы, утверждая, что они на самом деле хуже вещей машинного изготовления, но богатые смогли превратить их несовершенства в достоинства, такие, например, как уникальность. Но к концу девяностых этот трюк перестал работать. В то время как средний класс все более и более успешно копировал стиль богатых, в том числе все его несовершенства, последним пришлось пойти буквально на экстремальные несовершенства, чтобы выделиться, сделав высокой модой абсолютно несовершенную и уродливую одежду и мебель, – такой дурной стиль (с точки зрения старого деления на «высокое» и «низкое»), что ни один уважающий себя представитель среднего класса не захотел бы его копировать. Пример тому – разорванные джинсы с бусинками от Гуччи за 3800 долларов, бывшие пиком высокой моды прошлой осенью.
* * *
Как всегда, по этой части Сохо бродят толпы людей, стремящихся к статусу ноубрау. Если использовать старую иерархию «высокого» и «низкого», можно сказать, что люди сейчас гораздо больше озабочены статусом. Но происходит это скорее на улицах, чем в галереях. Осматривая групповую выставку в галерее Sonnabend, я поворачиваюсь, и мои глаза на мгновение задерживаются на интересном прямоугольнике пространства. В следующий момент я понимаю, что это окно и я смотрю на Бродвей.
Многие из этих людей небогаты: у них нет сбережений, их кредитные карты заблокированы, и у них тысячи долларов долгов под 18 процентов годовых. Но отсутствие средств не только не расхолаживает их в стремлении к статусу, но, напротив, подстегивает.
В музее Гуггенхайма выставка шести финалистов премии Hugo Boss для художников-авангардистов, и я хочу увидеть ее, пока она не за крылась. Я плачу 8 долларов и иду наверх, где выставлены работы. Все шесть финалистов работают в жанре инсталляции или мультимедиа, среди них нет ни одного художника или скульптора.
Походив вокруг экспонатов, я сажусь на пол перед видеоинсталляцией Пипилотти Рист из Швейцарии. Ее работа, названная «Пей мой океан», – это видеоклип на поп-песню Криса Айзека Wicked Game. В клипе автор поет эту песню в прикольном стиле слегка истеричным голосом, а камера скользит по ее телу под водой в тропическом океане, и ее тело совершает под музыку движения с намеком на эротику. (Рист раньше играла на ударных в рок-группе, что подчеркивает ее принадлежность к ноубрау.) Фильм (вернее, два фильма, соединенные под прямым углом на большом экране в форме буквы «L») сделан в знакомом сюрреалистическом стиле MTV.
Я задаю себе обычные вопросы, пытаюсь сделать обычные выводы. Я мысленно достаю логарифмическую линейку для измерения статуса, раньше меня не подводившую, и прикладываю ее к работе Рист. Авангард или кич? Искусство или реклама? Хорошо или плохо? Старые категории и понятия вряд ли здесь пригодятся. Это не совсем искусство и не совсем реклама. Это искусство, созданное из дискурса рекламы. Фильм, не являясь ни искусством, ни рекламой, но их гибридом, позиционируется и используется для того, чтобы продавать… самого автора. И при этом нельзя обвинять Рист в «продажности». Ее инсталляция на самом деле – не продукт, хоть и сделана на основе продукта. Рист, возможно, и не смогла бы продать свой фильм. (Охота кому-то покупать его, когда подобное можно увидеть по телевизору.) Как и большинство авторов инсталляций, Рист живет скорее за счет музеев и компаний вроде Hugo Boss, чем за счет продажи своих работ.
Смотреть на публику почти так же интересно, как и на выставленные работы, и, похоже, публика это понимает. Некоторые пришли сюда с тем же серьезным «аристократическим» видом, с каким я инстинктивно прихожу в музей, – серьезность, с которой человек приходит в Метрополитен, чтобы «получить» высокую культуру. Но большинство людей пришли лишь для того, чтобы развлечься и посмотреть друг на друга, твердо уверенные в том, что они и есть культура.
Присев на диванчик, я смотрю на облегающие штаны защитного цвета, подвернутые снизу, известные бренды (Polo, Guess) и более новые вроде Muss и LEI. Майки фирмы X-Large, рэйверско-эсидхаусные логотипы и шапки-«колокола», торчащие над штанами резинки высоко натянутых трусов, «Тимы» (ботинки фирмы Timberland) и Tommy Hill. Tоmmy Hilfiger, а до него Ральф Лорен, пытались продавать свои модели устремленному ввысь белому среднему классу, наполняя рекламу образами развлекающихся англосаксов. Но только когда черные городские поклонники хип-хопа начали носить одежду от Томми, их белые ровесники тоже решили, что это круто. Компания Hilfiger сегодня стоит 3,2 миллиарда долларов, и это главным образом потому, что он был первым модельером, понявшим – с помощью Рассела Симмонса, – что белые ребята будут покупать то, что покупают черные ребята, но никак не наоборот.
«Пей мой океан» – это словно парадигма процесса, происходящего повсеместно, – искусство репрезентации индивидуальности через культуру. Использовав формат музыкального видео и известную поп-песню, Рист сделала в более ярко выраженной форме то же самое, что делают люди, выбирая себе одежду или компакт-диски. Говоря о картине, видеоклипе или паре джинсов «мне это нравится», вы делаете некое суждение, но это не суждение о качестве. В ноубрау суждения о том, какой марки купить джинсы, больше связаны с индивидуальностью, чем с качеством. Этим суждениям не может придать вес ни знание канонов, традиций и истории, ни набор принятых обществом стандартов того, что является «хорошим вкусом». Это больше напоминает аппетит, чем объективное суждение. Вкус – это искусство сделать вещь частью вашей идентичности. Лишенный легитимности, установленной для них старой культурной иерархией, такой вкус больше похож на аппетит независимо от того, относится ли он к искусству, мебели или пище.
Привязанности, бренды и отношения – части того, что на самом деле означает понятие «мне это нравится». Ваше суждение вливается в поток других суждений, образуя миниатюрную экономику взаимоотношений, одну из миллиона тех, что то образуются вокруг культурных продуктов – фильмов, кроссовок, джинсов, поп-песен, – то вновь растворяются. Ваша индивидуальность – это инвестиция в подобные экономики. Инвестиции в некоторые проекты «большой сети» не влекут за собой практически никакого риска, но и дивиденды здесь минимальны (сказать, что вы любите «Роллинг Стоунз», – все равно что купить облигации тридцатилетнего займа), а инвестиции в «малые сети» рискованнее, но сулят большую прибыль (говоря, что вам нравится Лиз Фэр, вы либо инвестируете в ее имидж сильной рок-вокалистки, и это круто, либо поддерживаете андеграундную певицу, продавшуюся шоу-бизнесу, и рекламу джинсов от Кельвина Клайна, а это уже совсем не круто). Дивидендами становятся здесь внимание и самовыражение (ваша идентичность выигрывает от того культурного продукта, в который вы инвестируете), а риск в том, что ваша идентичность может оказаться чересчур усредненной, и вы станете похожи на всех остальных.
Стоимость таких «культурных акций» растет и падает на бирже общественного мнения, а значит, каждый должен тщательно следить за своим инвестиционным портфолио. Ни одна тенденция не сохраняется надолго, все меняется на рынке мнений. Тот, кто ищет свою индивидуальность через культуру, должен спешить ухватиться за очередную субкультуру, чтобы не стать жертвой всеобщего усреднения. Выбор между «хорошим» и «плохим» в культуре часто настолько серьезен, словно от этого зависит ваша жизнь, и до определенной степени так оно и есть. Ваш вкус временно становится частью вашей идентичности, и вы, в свою очередь, включаетесь в субкультуру других людей, также инвестировавших в акции поп-культуры. На культурном рынке ноубрау можно найти любой набор компонентов для создания индивидуальности. Вы строите ее из разных инвестиций, смешивая их так, чтобы добиться уникальности (и это уже ваше искусство). Вы хотите выглядеть оригинально, но не настолько оригинально, чтобы оказаться за пределами рынка общественного мнения. Можно кататься на сноуборде, слушать классическую музыку, пить кока-колу и обожать Квентина Тарантино, или любить рэп, или быть фанатом старых гонконгских боевиков и предпочитать мороженое Frusen Glädjè мороженому Häagen Dazs, или быть футбольным болельщиком, носить вещи от FUBU и любить оперу.
Крис Айзек, несколько сентиментальный певец в стиле кантри-кросовер, который в собственном клипе на песню Wicked Game обнимается с обнаженной по пояс моделью, – рискованная инвестиция для Рист. Но ее риск в какой-то степени застрахован, потому что сам Айзек вложил немалую часть своего образа поп-певца в акции «голубых фишек» – одного из первых белых певцов, кто начал вихлять бедрами на сцене, Элвиса Пресли. В своем фильме Рист вихляет бедрами под водой, создавая нечто вроде семпла всех вихляний Элвиса на сцене, а это – общий язык, на котором здесь все говорят. Но в то же время главная фигура в фильме – это его автор. Подобно тому как клипы MTV – это реклама музыки, фильм Рист – реклама автора, и как раз это и делает его искусством по законам ноубрау.
* * *
Вернувшись на Бродвей, я иду в сторону магазина Pottery Barn. Тут же неподалеку магазины Eddie Bauer, Nine West и Sunglass Hat (а скоро откроется и новая Prada, прямо в фойе музея Гуггенхайма). Эта часть Бродвея напоминает отрезок Пятьдесят седьмой улицы от Мэдисон до Шестой авеню и, таким образом, любой дорогой торговый центр марки «Бренд США», включая обновленный Тайм-сквер. Проходя мимо витрин, я чувствую, как новая, недешевая массовая культура давит на меня, пытаясь сделать похожим на других прохожих, ведь каждый из нас – потенциальный покупатель Banana Republic, вышедший на воскресную потребительскую прогулку.
Pottery Barn чем-то похож на музей. То, что ты глядишь на физическое воплощение мебели, которую уже видел раньше на фотографиях в каталоге, придает ей какую-то особую ауру. В магазине витает дух профессионализма. Тот, кто делал дизайн, явно воспользовался тем же методом, что и Джордж Лукас в сценариях «Звездных войн»: взял элементы из разных культур (французской, итальянской, колониальной культуры Юго-Восточной Азии разных периодов), выделив стили из культурного и исторического контекста и смешав с другими (ковбой из Монтаны едет на сафари в отеле «Раффл» в Сингапуре) так, что ни один стиль нельзя сразу же опознать. Это напоминает игру в музее Гуггенхайма: индивидуальность создается из обломков и обрывков культурных референций. Но здесь цель в том, чтобы создать доминирующую, мейнстримовую индивидуальность, которая была бы слишком нейтральной, чтобы казаться уникальной, и в то же время придавала бы особую атмосферу продукту массового производства.
В глубине магазина я замечаю кофейный столик. Он называется «Каирский сундук». В нем не слишком много египетского, но он все же напоминает сундук, который мог стоять в каюте капитана корабля, а Каир находится на Ниле. Цена – 299 долларов, дешево. Я приподнимаю столик, взявшись за край, чувствую приятную тяжесть. Я доверяю его качеству. Но нужен ли мне такой же кофейный столик, что стоит дома еще у восьми миллионов людей? В соответствии со старой иерархией «высокого» и «низкого» – нет, но, может быть, в том, чтобы иметь «Каирский сундук», есть какая-то не понятная мне ценность с точки зрения ноубрау.
Я с большим или меньшим усердием искал себе кофейный столик последние двадцать лет. Не так давно я понял, что вряд ли когда-нибудь найду такой, какой мне нравится, потому что я на самом деле пытался восстановить картографию статуса, словно нанесенную на кофейный столик родителей, с подававшимися в четко установленное время коктейлями и кофе и журналами вроде «Нью-Йоркера», точно определяющими место владельца в культурной иерархии. Снова я берусь за свою логарифмическую линейку статуса. Я искренне пытаюсь признать, что «Каирский сундук» – это дурной вкус, по старым культурным стандартам: товары массового производства плохи, в особенности мебель. И снова обнаруживаю, что мое суждение странным образом опровергнуто. Оригинальная смесь стилей сделала «Каирский сундук» непроницаемым для индивидуального суждения. Вкус, когда-то принадлежавший зрителю, перешел на сам объект.
* * *
Не приняв никакого решения насчет «Каирского сундука», я выхожу на улицу и иду по Бродвею к магазину «Дин и Де Лука», чтобы выполнить формальную цель своей прогулки: купить помидоры на вечер. Магазин напоминает мастерскую художника – высокие потолки и большие окна. По моему мнению, продукты здесь хуже, чем у Балдуччи на Шестой авеню, но наличие больших открытых пространств в «Дин и Де Лука» лучше способствует созерцанию таких предметов искусства, как грибы сморчки (35 долларов за фунт), чем тесная, напоминающая восточный базар лавка Балдуччи.
Я погружаюсь в сравнительный анализ помидоров из Бельгии и Нью-Джерси. Ни те ни другие не дешевы – три доллара за фунт. Это своего рода убежище для меня: здесь, в этом замкнутом пространстве, я все еще способен выносить суждения. Я не знаю, является ли «Пей мой океан» высоким искусством и принадлежит ли «Каирский сундук» к хорошему вкусу, но я могу, по крайней мере, выбрать хорошие помидоры. Помидоры – это моя аутентичная культура, часть культурного наследия, полученного непосредственно в том месте, где я рос. С точки зрения культуры в южной части Нью-Джерси мало что происходит, за исключением помидоров.
* * *
Я уношу мои помидоры и две великолепные телячьи ноги, завернутые в плотную вощеную бумагу, прочь из Долины Ноубрау и попадаю домой как раз к новостям в половине седьмого. Я беру бутылку оливкового масла, наливаю немного на сковороду и начинаю резать сельдерей. Потом я разрезаю помидор из Нью-Джерси и понимаю, что меня надули. Помидор, который внешне выглядит идеально и должен быть свежим, потому что привезен с расстояния в каких-нибудь пятьдесят миль, внутри выглядит клейким, словно замороженным, – как обычный «низкий» помидор из супермаркета. Надо было брать бельгийские.
7. Высокий ноубрау
Тина подбросила мне идею сделать материал о Геффене, когда мы обсуждали в ее кабинете, что войдет в «калифорнийский» номер журнала. Она бросила на меня быстрый, интригующий, заинтересованный взгляд, отвлекшись от своей диетической колы, и спросила: «Как насчет Геффена?».
Эта была одна из тех идей, которые время от времени всплывали в редакции с момента прихода Тины. Другим журналистам уже предлагали написать о Геффене, но все отказывались, потому что взяться за этот материал явно означало бы стать посредником в отношениях между Тиной и Геффеном. Я тоже мог сказать «нет». Я говорил Тине «нет» раньше, и хотя ситуация возникала довольно неприятная – Тина бросала на меня смертельно холодный взгляд такой же силы, как и ее горячий взгляд поверх банки с диетической колой, – но иногда это было необходимо. Иначе можно было просто сгореть на работе или стать специалистом только в чем-то одном, и этого от тебя ожидали бы вновь и вновь.
Но я сказал, что Геффен – это интересно и что я возьмусь за статью о нем. Зачем? Мне было любопытно узнать, как ведет свои дела антимагнат вроде Геффена (история его жизни – это тоже своего рода прототип ноубрау). Кроме того, думаю, мне хотелось порадовать Тину, создать у нее впечатление, что я – журналист, способный писать о людях, которые ей интересны, и попасть в круг приближенных к ней авторов, приглашавшихся к ней домой на ужин и получавших от нее факсы среди ночи. Меня привлекало в Тине то, что она с головой окунулась в донкихотский проект, в который ее позвал Ньюхаус, – воссоздать «Нью-Йоркер» в качестве статусного журнала для новой коммерческой культуры, в то же время сохранив литературные качества культуры старой. Даже если предмет ее очарования вроде Геффена не всегда оправдывал вложенную в него героическую энергию, сама эта энергия была очень привлекательной.
* * *
– Понимаете, мне сложно объяснить вам, что я делал в прошлом, не говоря уже о дне сегодняшнем, – говорил мне Геффен. При этом он смотрел на оранжевое послеобеденное солнце, пробивавшееся сквозь жалюзи его лос-анджелесского офиса, и цвет солнца был таким же, как и у солнца, садящегося над Мос Айсли на компьютерах в ILM, и у солнца, освещавшего «Титаник», отправлявшийся к своему последнему закату. – У вас есть свое понимание всего этого, – продолжал Геффен, – но на самом деле все не так, все по-другому.
Геффен оторвал клеящуюся бумажку от блокнота, лежащего на кофейном столике перед ним, и сложил ее вчетверо. Он проделал это бессмысленное действие осторожно. Подвижные брови словно сдерживали скуку в его глазах, которая, казалось, могла вот-вот перекинуться на другие части лица. Такое впечатление, что весь энтузиазм Геффена, который его брови были вынуждены выражать все эти годы по отношению к абсолютно восхищавшим его артистам, оставили след на его нижних веках – своего рода шлак из машины по производству звезд.
В Лос-Анджелесе стоял великолепный ноябрь ский день. Тридцать пять лет, наполненных для Геффена поп-мечтателями и воплями в телефонной трубке, казались всего лишь далеким звуком лир и флейт. Избавленный от всех своих деловых забот, он был на грани того, чтобы погрузиться в экономику фанатизма, брендов и отношений, настолько чистую, что она казалась прозрачной.
Зазвонил телефон. Геффен слегка повернул голову и посмотрел на определитель номера. На его телефоне было двадцать кнопок быстрого набора с именами, в том числе Джефри Катценберга, Стивена Спилберга, Эдгара Бронфмана-младшего, Рона Майера, Кельвина Клайна, Пола Аллена, Аллена Грубмана и Барри Диллера (могла ли быть среди них Тина Браун? – подумал я) – «большая сеть» отношений с законодателями вкусов, с которыми Геффен общался ежедневно.
Прежде чем вылететь в Лос-Анджелес, я отправил Геффену факс, в котором написал, что представляю его человеком, который ходит по ночным клубам в поисках новой «Нирваны» или новых Guns n’Roses, бывает на гламурных вечеринках, летает в Канны, сыплет афоризмами и т. д. Геффен позвонил мне и сказал, что у него в жизни нет ничего подобного. Какое ему дело до всей этой ерунды – алкоголя, шмоток, вечеринок? Он вел очень тихую жизнь, встречался с друзьями, занимался живописью и работал. Он не следил за новой музыкой, он не следил за ней уже много лет. «Я должен честно сказать вам, – говорил он мне, – что когда впервые услышал песню Smells Like Teen Spirit, то не смог разобрать слова. Я никогда бы не подумал, что эта песня может стать таким хитом, попасть на первое место в хит-парадах во всех странах. Если уж я не мог разобрать слов на английском, то как эта песня могла понравиться людям в какой-нибудь Греции?»
Геффен выпрямился на своем стуле, приподнял голову. На нем были кроссовки «Рибок», джинсы и майка «Пума» под фланелевой рубашкой, которая выглядела лучше, чем одежда из магазина Gap, – некоторый элемент шика. («Надень хороший костюм», – простонала моя мать, лежа в постели больная, узнав, что я еду в Калифорнию брать интервью у миллиардера Дэвида Геффена. Я надел хорошую майку – гаитянской группы RAM, я купил ее в Порт-о-Пренсе, и Геффену она сразу понравилась: «Где вы купили эту майку?» – спросил он меня.)
Офис Геффена на Беверли-Хиллс, как и его дом на пляже в Малибу, был отделан в белых тонах, и это был, с одной стороны, религиозный буддист ский белый цвет, а с другой – в нем читался вопрос: «Кому, собственно, какое дело?». «Дэвид реагирует на окружающую среду не так, как большинство людей, – рассказал мне до этого Фрэн Лейбовитц, друг Геффена. – Например, он живет на пляже, но никогда не купается в океане. И если он едет в отпуск, это почти всегда морской круиз, восемь миллионов миль, чтобы попасть на точно такой же пляж, как у него перед домом. И он все равно не купается в океане».
В приемной послышались голоса. Геффен приподнял голову. Казалось, скука переместилась с его век куда-то в глубь черепа.
– Я кому-то нужен? – крикнул он.
– Дэвид, ты нам нужен так сильно, как никто другой, – сказала Терри Пресс, директор по маркетингу компании «Дрим-Уоркс», заходя в кабинет впереди своего босса Джефри Катценберга и легенды музыкальной индустрии Мо Остина, который руководил музыкальным отделом «ДримУоркс».
Геффен поднялся со своего кресла, одного из четырех одинаковых кресел, стоящих вокруг низкого стола. Он не работал за письменным столом с первых своих лет в агентстве Уильяма Морриса в середине шестидесятых. В присутствии Катценберга, веселого человека, одетого в молодежном стиле, Геффен стал игривым и страстным. Хотя создание компании «ДримУоркс» с привлеченными со стороны двумя миллиардами долларов (кроме этого, три партнера, Геффен, Катценберг и Стивен Спилберг, дали по 33,3 миллиона долларов каждый) было, конечно же, взрослым предприятием, в нем присутствовал и мальчишеский дух, который, казалось, был важен для имиджа компании.
Катценберг и Геффен поговорили о Клинтоне, который провел уикенд в Лос-Анджелесе и уехал этим утром. Во время одного из предыдущих своих визитов в Лос-Анджелес президент был приглашен на ужин в дом Геффена в Малибу, представляющий собой серию небольших непретенциозных зданий на пляже, и в этот раз тоже захотел там остановиться. Геффен, в свою очередь, бывал в Белом доме неод нократно. Трехстороннее партнерство «ДримУоркс» было зачато в спальне Линкольна после торжественного обеда для Бориса Ельцина в 1994 году, когда «Г» был разбужен в половине второго ночи телефонным звонком от «К» и «С» – они ночевали в отеле Хей-Адамс, – которые сказали: «Давай сделаем это». Не так давно Геффен присутствовал на торжественном обеде для президента Китая, и в списке гостей, опубликованном в «Таймс», его имя было одним из двух имен без всякого комментария: не «Дэвид Геффен, компания «ДримУоркс»», не «Дэвид Геффен, коллекционер произведений искусства», не «Дэвид Геффен, филантроп» и не «Дэвид Геффен, известный гомосексуалист», а просто Дэвид Геффен – единственный человек в истории культурного капитализма, преуспевший в трех различных областях: поп-музыке, театре и кино, но чья единственная долгосрочная инвестиция за все годы была сделана в самого себя.
Геффен не мог в этот раз принять президента. «Поэтому я позвонил Джефри и сказал: “Думаю, президент должен остановиться у тебя”». Катценберг, чей дом был всего в нескольких сотнях метров от дома Геффена, согласился, и в субботу вечером Геффен пришел к Катценбергу, чтобы поужинать и посмотреть фильм с президентом («Миротворец», снятый компанией «ДримУоркс»). Сейчас Катценберг рассказал Геффену, что Клинтону очень понравился его дом и тот поинтересовался, сможет ли на следующей неделе здесь остановиться Хилари, а также хотел поговорить с Чарльзом Гуотми (архитектором дома Катценберга) о новом дизайне библиотеки Клинтонов (в газетах были слухи, что Клинтону предложили место в совете директоров «ДримУоркс» по истечении срока его президентства).
Интересно ли находиться так близко к самым влиятельным людям мира? Геффен, моргнув, возразил. Возможно, когда-то и было. А сейчас это стало рутиной. Скучно. «Я бы сформулировал это так. – Геффен прижал руку к груди и бросил на меня искренний взгляд. – Я рад иметь отношения с президентом Соединенных Штатов. Я не могу сказать, что не придаю этому большого значения. Но, как бы это сказать, поймите меня правильно – я не нахожусь ни под чьим влиянием».
Геффен пересказал Катценбергу утренний телефонный разговор с президентом. «Он спросил: “Как получилось, что дом Джефри намного красивее твоего? Я думал, это у него нет денег”. Так и сказал мне: “Я думал, он – банкрот”. И я ответил ему: “Банкрот – так говорят в Голливуде”».
Катценберг хихикнул. Геффен выкрикнул: «Ох!» с выражением боли на лице, как будто маленькая радость от своего рассказа оказалась для него слишком большим счастьем, истощив его силы. Геффен с усталым видом приземлился в свое кресло.
Терри Пресс повернулась к Геффену и, намекая, что пора бы уже перейти к делу, спросила с наигранным кокетством: «Ты мне составишь пару в Вашинг тоне?».
Премьера выпущенного компанией «ДримУоркс» фильма Спилберга «Амистад», посвященного теме работорговли, должна была пройти в столице в начале декабря – через несколько недель. Сам режиссер сказал, что это «чрезвычайно важный фильм, возможно, мой самый важный фильм из всех». Геффен, напротив, старался дистанцироваться от этой картины, возможно, потому, что новость, будто «Амистад» якобы является плагиатом книги чернокожей писательницы Барбары Шаз-Рибу повторялась в тот день по телевизору каждые пятнадцать минут. Или, быть может, Геффен действовал в соответствии со своей старой стратегией и предпочитал оставаться в тени таланта. Или, возможно, он предчувствовал провал.
– Я не поеду, – сказал Геффен раздраженно.
– Что значит, ты не поедешь? – На лице Терри засияла ироническая улыбка.
– Я не хочу туда ехать. Я лучше поеду в отпуск в Акапулько. Какого черта я должен быть в Вашингтоне? Я вам там не нужен. Пусть со Стивеном поедет Джефри. Я ездил туда с Джефри в прошлый раз.
Терри посмотрела на Катценберга, словно спрашивая: «Ну и что мне сейчас делать?». Катценберг в ответ пожал плечами, видимо, говоря: «А что мне делать?».
Терри снова повернулась к Геффену.
– То есть ты хочешь сказать, что готов поехать в Вашингтон ради ужина с китайцами, но не готов поехать ради компании?
– Да, – выкрикнул Геффен. – Есть чертовская разница между премьерой фильма и…
– И премьером Китая? – легко и непринужденно вставил Катценберг, приложив руку к щеке и улыбаясь, совсем как Джек Бенни. – И то и другое – премьеры. Так в чем тогда разница?
* * *
Воротилы шоу-бизнеса обычно начинают свой путь в кино, редко на телевидении, но почти никогда в музыкальной индустрии. До Геффена ни один из американских миллиардеров, составляющих элиту бизнеса, не пришел из этой толпы жующих сигары толстяков с кремом для обуви на волосах. Навыки, необходимые в поп-музыке, не считались универсальными и применимыми в других сферах. Ты мог быть одарен золотой интуицией, но ведь с годами ты становился старше, моды менялись, и интуиция начинала подводить тебя. Только Геффен смог соединить в себе удивительную чувствительность к капризам поп-музыки и железную волю идеального капиталиста. Дэнни Голдберг, создававший себя по образу и подобию Геффена, говорил мне: «В музыкальном бизнесе есть выдающиеся открыватели талантов, есть замечательные бизнесмены и превосходные инвесторы, но только Дэвид смог объединить все это в себе. Он – единственный человек такого типа, который когда-либо появлялся в музыкальной индустрии».
В конце пятидесятых и начале шестидесятых у звукозаписывающих компаний было гораздо больше контроля над музыкой, чем сегодня. Компания обычно выбирала и музыку, и продюсера, и аранжировщика, и группу. «Артист» – тот, кто писал и/ или пел песню, – имел к этому процессу достаточно мало отношения. Когда рок-революция смела этот корпоративный контроль над музыкой, центром власти в музыкальном бизнесе стал певец и автор песен, заменив аранжировщиков и продюсеров. Власть команды артиста – агентов и менеджеров – усилилась, а власть команды лейбла – его юристов – ослабла. И во время этого нестабильного периода Дэвид Геффен впервые получил власть как агент и менеджер.
Симпатии Геффена к бродвейским дивам дорокового периода влекли его к мощным сильным женщинам вроде Лоры Найро и Джони Митчел. Митчел одно время жила вместе с Геффеном, и это происходило в абсолютном соответствии с его гением: полное погружение своей индивидуальности в поп-индивидуальность звезды. (Позднее, когда Геффен переехал в Лос-Анджелес, у него был роман с Шер. «Дэвид хотел на мне жениться, – рассказала она мне. – Он сделал мне предложение на Гавайях. У него уже были кольца и все прочее.) Найро стала клиентом Геффена после сокрушительного провала на Монтерейском поп-фестивале 1967 года, когда от нее ушел предыдущий менеджер, и Геффен оказался ярым защитником ее нетрадиционного таланта. Дэвид Кросби, который вместе со своими коллегами по группе «Кросби, Стиллс, Нэш и Янг» также был клиентом Геффена, рассказал мне: «Дэвид всегда был очень амбициозен во всем, что касалось его самого, но у него был один пунктик, слабое место: он по-настоящему любил Лору Найро. Это открывало в нем нечто такое, где деньги уже не имели значения». При этом Геффен был не настолько поглощен любовью, чтобы не отхватить для себя пятьдесят процентов акций в издательской компании Найро «Туна Фиш Мьюзик», – эта сделка принесла ему более двух миллионов долларов в 1971 году, став первым большим заработком в его карьере.
Геффен отличался от других агентов и менеджеров тем, что рок-н-ролл никогда не был стилем его жизни. В отличие от Альберта Гроссмана – менеджера Боба Дилана – Геффен не стал хиппи. Он почти никогда не принимал наркотиков. В критические моменты в карьерах рок-звезд, когда миллионные гонорары повисали в воздухе, Геффен часто оказывался единственным человеком в комнате, который не был под наркотой.
Первым открытием Геффена стал Джексон Браун. Геффен сначала выбросил демо-запись Брауна, но его секретарша увидела фотографию певца в мусорной корзине. Он ей понравился, она послушала запись и убедила Геффена тоже ее послушать. Геффен пригласил Брауна к себе в офис. Для Брауна Геффен был существом нового типа: бизнесменом, который любил артистов. «Он был вроде как одним из нас, – рассказал мне Браун. – Это было главное в нем. Он был, как мы, но в то же время как бы и выше всех нас, потому что он был успешным бизнесменом. Владельцы других лейблов говорили: “Черт возьми, он все делает так быстро. Он так быстро считает в уме”. Он всегда выбирает прямую дорогу к прибыли».
В 1971 году Геффен основал Asylum – звукозаписывающую компанию, которая выпустила большую часть фолк-рокового иконостаса, существовавшего в моем одиннадцатилетнем мозгу. Джексон Браун, Джо Джо Ганн, Линда Ронштадт, Джони Митчел времен альбома Court and Spark и «Иглз» – весь тот «спокойный, с чувством легкости» саунд, который, можно сказать, стал мейнстримом современного кантри.
– У меня не было намерений основать свою звукозаписывающую компанию, – рассказал мне Геффен. – Но Ахмет Эртегун подтолкнул меня к этому, когда все лейблы отказались от Джексона Брауна. Я сказал ему: «Ты можешь сделать на этом парне миллионы», а он ответил: «У меня уже есть миллионы». Все звучало именно так. Большое спасибо, деньги у меня уже есть.
Музыкальный критик Роберт Крайстго в своей рецензии на первый альбом «Иглз» в 1972 году написал, что группа была «великолепной, но фальшивой». Более правильно было бы сказать, что она была великолепной и фальшивой. Спокойное, легкое ощущение, ассоциируемое с Калифорнией, было создано и упаковано человеком из Детройта (Фреем), человеком из Техаса (Доном Хенли) и человеком из Бруклина (Геффеном). Музыка, которую играли «Иглз», не была связана ни с исторической реальностью музыки черных, ни с политической легитимностью фолк-музыки, ни с социальной энергией классовой борьбы. Фолк-рок как стиль сформировался самостоятельно. Панк-рок, который часто преподносится как противоядие пустой виртуозности «Иглз» и возврат к антикоммерциализму и социальной значимости рока, кажется мне скорее логической эволюцией коммерческого саунда Лос-Анджелеса. Стиль в панк-роке играл даже большую роль, чем в фолк-роке. Как написал в 1981 году в своем эссе «Защищая прыгунов в небо: критика теорий молодежных субкультур» Гэри Кларк, после волны панк-рока середины семидесятых «стала возможной практически любая комбинация стилей. Вот лишь несколько примеров: возвращение скинхедов, модов и тедди, “грубых парней”, “замшевых туфель”, новая психоделия, рокеры – традиционные и более молодые, одетые в джинсы хеви-металлисты, растафари, соул-головы (коротко стриженные чернокожие), диско, люди-муравьи, северный соул, джаз-фанк, фанаты Боуи, панки (поделенные на “ой”, “хардкор” и “настоящий” панк, плюс авангардное крыло), футуристы, новые романтики, воссоздатели глэма, битники и т. д».
К 1999 году – спустя тридцать пять лет после прихода Геффена в музыкальный бизнес – мир поп-музыки вернулся к ситуации начала шестидесятых, когда коммерческие интересы были важнее артистов. Рэп был подобен поп-музыке начала шестидесятых тем, что лейблы и продюсеры часто имели больший контроль над музыкой, чем сами рэперы. Снова начали выходить синглы. Важность «альбомного рока» уменьшилась. Никто не рассматривал музыкантов из групп Hanson, Aqua или Spice Girls как авторов своих песен. Разница была в том, что лейблы не принуждали артистов делать поп. Те делали это сами. Коммерческий инстинкт был теперь присущ им самим.
* * *
Джордж Троу написал в своей статье об Ахмете Эртегуне, опубликованной в «Нью-Йоркере»: «Существовала непродолжительная мода на Дэвида Геффена». Геффен, бывший тогда восходящей звездой поп-музыкального бизнеса, был умным и наглым, но у него не было знания, стиля и утонченности Эртегуна. Эртегун был адептом. Он был модным. Его авторитет как законодателя вкусов происходил из того особого знания, которое можно получить, лишь бывая каждую ночь в Гарлеме и куря «чай» с музыкантами стиля би-боп, либо съездив в Нью-Орлеан, чтобы послушать музыку свамп. В те годы, которые сейчас трудно себе представить, задолго до наступления эпохи MTV, это было единственным способом вынести суждение о группе или исполнителе.
С другой стороны, Геффен просто… любил музыку. Он обладал энтузиазмом и мощной привязанностью к поп-звездам, которых любил, – Лоре Найро, Джони Митчел и Шер, но у Геффена не было того знания истории и музыки, как у Эртегуна, не говоря уже о его личном стиле. (Во время своего романа с Шер Геффен носил стильные кожаные куртки, но в восьмидесятые годы он словно сказал себе: «Кого это, на хрен, волнует?» и стал ходить в джинсах и майках, ставших частью его личной иконографии.) Геффен не знал, откуда происходит музыка, почему она звучит так, а не иначе, и в чем ее социальная ценность. Его вкус напоминал… аппетит. Геффен не знал ничего, кроме того, что ему нравилось, и того, как полностью раствориться в своем энтузиазме. И как выяснилось, это было гораздо важнее.
Статья об Эртегуне была опубликована, когда Геффен находился не у дел. В 1976 году у него обнаружили рак мочевого пузыря, и одновременно он был отстранен от руководства Warner Pictures. Не имея права по своему контракту работать в конкурирующей компании, он поселился в Нью-Йорке, часто посещал «Студио 54» и преподавал в Йельском университете. Описав перед этим яркую дугу на небосклоне поп-музыки, он, казалось, утратил влияние на поп-культуру. Но в 1980 году Геффен вышел из забвения, основав Geffen Records (оказалось, что ему был поставлен неверный диагноз и у него не было рака). После пяти убыточных лет Геффену, наконец, повезло с хард-рок-группами середины восьмидесятых – Whitesnake, второй реинкарнацией Aerosmith и прежде всего Guns n’Roses. Его компания также сделала несколько успешных фильмов – «Поздние часы», «Потерянный в Америке», «Битлджус», «Интервью с вампиром», – а сам Геффен вложил деньги в два чрезвычайно успешных бродвейских мюзикла – «Девушки мечты» и «Кошки». Но, пожалуй, самым личным проектом Геффена был фильм «Рискованный бизнес», открывший миру Тома Круза. Геффен сам придумал имидж Круза для рекламных плакатов – актер в черных очках, майке и джинсах – стиль, который был торговой маркой Геффена. Геффен также настоял, чтобы финал – в котором герой Круза должен был в наказание за превращение родительского дома в бордель не попасть в Принстонский университет – переписали. И в той версии, которую показали миру, он получает хорошую жизнь и Принстон.
К началу девяностых Эртегун, который все еще много путешествовал по миру и мелькал на страницах светской хроники воскресного выпуска «Таймс» и все еще был председателем совета директоров компании Atlantic Records, уже почти не влиял на то, что происходило в музыкальной индустрии. Между тем Геффен, сидящий на берегу океана в своих джинсах и майке, с сотовым телефоном и бульварным романом, глядящий на закат, стал одним из основных законодателей мод ноубрау.
Если Уорхол был Моисеем, то Геффен был Иисусом: он звуком своей трубы обрушил здание «высокой» культуры. Это Геффен остался с Джони Митчел дома, вместо того чтобы ехать на Вудсток, и был с ней той ночью, когда она написала песню «Вудсток», ставшую знаковой в эволюции «неаутентичной аутентичности» – этого главного товара ноубрау. Это Геффен превратил калифорнийский фолк-рок в стиль «большой сети», который повторил себя сам уже, наверно, раз двадцать, но все еще держится крепко. Это Геффен был на обложке «Нью-Йорк пост» рядом с Йоко Оно, выходя из больницы, где умер Джон Леннон, ярким солнечным утром в тот день 1980 года, когда музыка действительно умерла. Это Геффен потребовал от Тома Фрестона с MTV, чтобы тот поставил в эфир клип никому до этого не известной калифорнийской группы Guns n’ Roses, ставшей одним из первых прорывов из «малой сети» в «большую». Это лейбл Геффена подписал контракт с андеграундной группой из Сиэттла «Нирвана», ставший примером легкого перемещения между «сетями», которому следуют сегодня группы вроде Hanson, Juvenile или Kid Rock. А в девяностые годы Геффен, самый выдающийся из всех арбитров поп-культуры, стал одним из самых выдающихся коллекционеров высокого искусства.
Если Эртегун стоял во главе процесса превращения черной культуры в модную белую культуру, то Геффен возглавил превращение модной культуры в новую массовую потребительскую культуру, для которой не нужно было специального знания, которая могла продаваться (и, возможно, недешево) и в которой играла существенную роль демография. Глубокое знание черных корней музыки, которое Эртегун привнес в рок-н-ролл, на самом деле осложнило понимание фундаментальной эволюции поп-музыки в семидесятые годы – от бизнеса, главными в котором были история и музыка, к бизнесу, где главными были имидж и стиль. Геффен, которому все быстро надоедало, наглый, не обремененный знанием истории, зато одаренный творческим энтузиазмом подростка, соответствовал по духу аудитории, тогда как Эртегун на это рассчитывать не мог.
* * *
Имея личное состояние размером более двух миллиардов долларов, большая часть из которых была получена в результате продажи компании Geffen Records компании MCA в 1990 году и последующей продажи MCA компании Matsushita, Геффен наверняка был самым богатым бизнесменом за всю историю поп-музыки. В корпоративном мире глобального развлечения многие законодатели мод, с которыми я разговаривал, считали, что Геффен – это возврат к эре индивидуализма. Только он был по-настоящему независим, потому что был самым богатым и могущественным. Он был «единственным свободным человеком в Париже», говоря словами песни, написанной о нем Джони Митчел. Джордж Лукас, несмотря на все свои бунтарские фантазии, казался скорее обычным бизнесменом, тогда как Геффен был настолько независим, насколько может быть таковым законодатель мод в ноубрау.
«Дэвид не боится», – сказал мне Джимми Айовайн, когда я приехал в его цитадель хип-хопа в штаб-квартире лейбла Interscope на бульваре Уилшир. Айовайн был еще одним парнем из Бруклина, жившим на широкую ногу благодаря поп-музыке. «Мы все знаем, какой он умный и талантливый, но он, кроме того, еще и не боится, или если и боится, то не показывает этого. Он всегда готов вложить все, если во что-то верит. А в музыкальном бизнесе этого больше нет. Потому что большинство людей боятся за свои должности, за то, как на них могут повлиять другие».
В Голливуде из страха сделали коллективный фетиш. Страх стал неким персональным вуду. Все эти элементы из «Крестного отца» – медвежьи объятья, мужские поцелуи, стали голливудской гангстерской модой, и она захватила Геффена. Главным во всем этом были деньги, но присутствовал также и страх. Геффен стал крестным отцом для людей вроде Паффи Комбса и Мастера Пи.
– Некоторые в Голливуде ничего не боятся, – сказала мне продюсер Линда Обст за чаем в отеле «Пенинсула», – потому что они не понимают, что такое страх. Они – психопаты, ненормальные. А Дэвид знает, что такое страх.
Сам Геффен сказал мне: «Я не говорю, что я не способен бояться, понимаете? Но я бы сказал в принципе, что страх не играет большой роли в моей жизни. В Голливуде люди обманывают друг друга, а потом идут вместе играть в теннис, понимаете? Но я не хочу играть в теннис. Я не хочу этого. Я не буду играть в теннис с людьми, которые меня кинули, – мне это неинтересно».
Из-за того что Геффен не боялся, его очень боялись. Многие считали, что Геффен готов вознести личные обиды на такой уровень, что другие магнаты сочли бы это напрасной тратой времени. Тот факт, что у Геффена не было ни с кем продолжительных отношений – ни партнера, ни детей, ни родственников, кроме брата, с которым он не общался, – давал ему огромное количество свободного времени. «Знаете, у него куча времени, – сказал мне один известный человек в звукозаписывающей индустрии. – И если вы его обидите, то он об этом не забудет». Мысль о том, что Геффен жестоко мстил своим обидчикам, настолько глубоко укоренилась в Лос-Анджелесе, что стала приниматься всеми на веру независимо от фактов. Это было похоже на вуду: легче поверить, что за твоими неудачами стоят зловещие силы, чем в то, что ты сам в них виноват.
В своей книге о бизнесе в рок-музыке «Дом на холме» Фред Гудман саркастически заметил: «Если главное в рок-н-ролле – это деньги, то Дэвид Геффен – главный человек в рок-н-ролле». Подобно другим журналистам этого поколения, Гудман полностью принимает идею о том, что алчные бизнесмены якобы продали благородных артистов, и показывает Геффена в своей книге главным злодеем в этом культурном процессе. Гудман цитирует Пола Ротчайлда, продюсера, которого Геффен когда-то обошел в сделке с участием группы «Кросби, Стил и Нэш»: «Когда Дэвид Геффен заходит в океан, акулы перемещаются в лагуну и вся атмосфера меняется. Раньше говорили: давайте делать музыку, деньги – это вторично. Теперь говорят: давайте делать деньги, музыка – это вторично».
Необоснованность утверждения, что Геффен – своего рода Мефистофель, олицетворение коллективной алчности, продавшей рок-н-ролл, в том, что оно не учитывает участия самого артиста в сделке по его «продаже». Геффен, в сущности, давал артистам то, чего они хотели сами: деньги и власть в реальном мире бизнеса. «Большинство людей не умеют зарабатывать, – сказал Айовайн. – Это как искусство. Уметь зарабатывать – это искусство. И Дэвид учил людей этому».
– Деньги разрушают людей, – сказал мне Джексон Браун. – Черт возьми, как только у тебя появляется много денег, ты должен что-то сделать, чтобы сохранить связь с тем, что ты пишешь, и понять, зачем ты пишешь. И если ты всегда до этого считал, что деньги улучшат твою жизнь, теперь ты должен привыкнуть к тому, что это неправда. Но это все сделал не Геффен. Не надо придумывать. Почему бы не сказать, что это сделали еще «Битлз».
Геффену быстро наскучили мои попытки поговорить о роли денег и искусства в роке. Когда я спросил его, есть ли в роке социальный или политический смысл – являются ли мотивацией артиста идеалы, а не деньги, он ответил: «Это все ерунда, всегда так было. Это никогда не имело большого значения. Большинство артистов хотели зарабатывать на жизнь, трахаться, хотели разобраться в себе. Они не пытались изменить мир. Это за них придумали другие. Я знал всех этих людей. Я знал их очень близко и очень хорошо. Например, Боб Дилан. Я бы сказал, что Боб Дилан так же заинтересован в деньгах, как и любой другой человек, которого я встречал в своей жизни. И это правда». В начале девяностых, получив деньги от MCA, Геффен собрал одну из лучших в мире коллекций послевоенного американского искусства, от абстрактного экспрессионизма до поп-арта. Собирая коллекцию высокого искусства, Геффен, однако, не утратил своих инстинктов в отношении мод и тенденций в поп-культуре. Это Геффен убедил Кельвина Клайна использовать в своей рекламе нижнего белья белого бостонского парня с дурной репутацией (который с раннего возраста взял себе хип-хоп-псевдоним Марки Марк). Геффен также сразу же оценил «Бивиса и Баттхеда».
– Мы показали первый выпуск «Бивиса и Баттхеда» в 1992 году, это было в пятницу поздно вечером, – рассказал Том Фрестон. – И вот Дэвид звонит мне на следующее утро, в субботу, в десять часов по нью-йоркскому времени, значит, это только семь утра в Калифорнии. Он смотрел передачу накануне. И смотрел не потому, что кто-то ему сказал: Дэвид, это надо посмотреть. Он просто ее смотрел. И он позвонил мне и сказал: «Том, это будет большущий хит, поверь мне. Я хочу сделать фильм и выпустить диск».
Тот же самый инстинкт, что помог Геффену собрать одну из лучших в мире коллекций изобразительного искусства, помог ему сразу же предвидеть огромную популярность «Бивиса и Баттхеда». Благодаря этому он и был Геффеном. Его ум был настолько утонченным, что идея культурной иерархии не могла в него попасть.
В 1990 году Геффен купил усадьбу Уорнера, построенную Джеком Уорнером на вершине Беверли-Хиллс в тридцатые годы. Поначалу Геффен собирался разместить в доме свою арт-коллекцию, сделав из него своего рода парадный вход в мир ноубрау нового Гетти, сидящего на вершине собственного холма в Брентвуде, на другой стороне долины. Но в течение следующих восьми лет, посвященных тотальной переделке абсолютно всего в доме Уорнера, включая бассейн и теннисный корт, Геффен решил сделать усадьбу Уорнера своим домом, как только ремонт будет закончен. Это решение имело, по мнению друзей Геффена, не последнее значение в эволюции его индивидуальности – главного проекта Геффена. Пляжный дом в Малибу, несмотря на комфорт, не имел собственного стиля, являясь лишь набором помещений, выполненных в белых тонах. С другой стороны, дом Уорнера, казалось, был попыткой создать что-то заметное или хотя бы выйти за пределы отношения «Кому какое дело?», которого Геффен придерживался во всем, что касалось вкуса.
Для того чтобы мне разрешили осмотреть этот дом, потребовалась немалая работа в сфере личных контактов. Я понятия не имел, что Тина сказала Геффену – она была достаточно умна, чтобы мне об этом не рассказывать. Раньше я убедил себя в том, что моя власть как рассказчика равна власти Брауна и Геффена при заключении их сделки, но сейчас понимал, что это, в общем, не так.
Наконец Геффен согласился показать мне дом и приехал за мной в отель. Спускаясь по ступенькам, я увидел лицо Геффена, говорящего по телефону, на фоне стекла машины. Брови не двигались, и лицо было полностью погружено в скуку. «Я хочу, чтобы вы знали, что я этого на самом деле не хотел», – сказал он мне, когда я сел в машину, раздраженным голосом. После того как это заявление было сделано, настроение Геффена, казалось, слегка улучшилось.
Дорога сначала извивалась по каньону, потом взметнулась к обдуваемой ветрами вершине Беверли-Хиллс, на которой дом Уорнера занимал десять акров.
– Стивен сегодня был в слезах, – сказал Геффен. Накануне состоялась премьера фильма «Амистад» в Лос-Анджелесе, и рецензии были не слишком хорошие. – Знаете, как его назвали в журнале «Тайм»? Стивен Спер-берг. Это ужасно. Отвратительно. Репутация фильма навсегда испорчена этим судебным делом.
Проехав через большие металлические ворота, мы двигались между нависавшими над дорогой платанами. У Джека Уорнера здесь был корт для гольфа. Геффен снес его и, облагородив местность, добился исключительного вида на холмы. Он посадил здесь взрослые платаны, их привозили через Беверли-Хиллс по одному в сутки, перекрывая для этого движение по вечерам.
Дом был большим и белым, в георгианско-голливудском стиле, с колоннами. Геффен распахнул входную дверь, пропуская меня вперед. Внутри я увидел круглую прихожую с паркетным полом и винтовую лестницу. Справа висело длинное узкое полотно Джексона Поллока, слева – картина де Кунинга, рядом – работы Горки и Раушенберга. В коридоре у ванной – Уорхол.
На стене внизу я заметил «комбинированную картину» Джаспера Джонса, от взгляда на которую волосы у меня на затылке зашевелились, – не столько из-за самой работы, сколько из-за прилипшей к ней ауры денег и славы.
Роберт Раушенберг часто бродил по Сохо в шести десятые годы в поисках объектов для своих коллажей, или «комбинаций», как он их называл. В те годы отбросы утилитарной потребительской культуры (лопасти вентиляторов, рубашки, куски алюминия, манекены, игрушки) выплевывались на улицы Сохо, а Раушенберг и другие трансформировали этот мусор в высокое искусство, которое теперь висит в лучших музеях и частных коллекциях мира вроде коллекции Геффена. Поп-арт не был концом искусства, но он ознаменовал собой смерть одного из тезисов аристократической культуры, согласно которому искусство имеет большую ценность, чем любой другой продукт.
Здесь, в погруженном в тишину разросшейся зелени Беверли-Хиллс, радикальная атака на культурную иерархию, предпринятая художниками поп-арта в шестидесятые годы, казалось, достигла апофеоза. Старая культура легко встроилась в «супермаркет» интересов Геффена. Высокий ноубрау.
Стиль дома был своеобразным, но без ярко выраженных отличий. Он был таким же, как и все остальное: Геффен ни в коей мере не нарушил уорхоловский эстетический принцип. И в то же время в доме было нечто особенное. Стены были облицованы широкими сосновыми панелями, которые сейчас уже не выпускают. Геффен рассказал мне, что купил здание школы девятнадцатого века в Северной Калифорнии специально ради этих сосновых панелей. Молдинги в стиле рококо по всему дому были убраны, за исключением гостиной, в которой сохранились и другие элементы первоначального дизайна. Внизу располагался кинозал в стиле арт-деко, экран выезжал из пола. В том же стиле был выдержан и бар, а за поворотом коридора находилась бильярдная.
Дом производил то же впечатление прекрасной копии, что и ранчо Скайуокер: ощущение великолепного дизайна было везде и одновременно нигде. Вкус Геффена сводился к тому, чтобы разумно избежать любых возможных ошибок. Это был не столько хороший вкус, сколько отсутствие вкуса вообще. Такой же вкус был у Тины Браун, как мне казалось, и, возможно, это и было сущностью вкуса в ноубрау: утонченный инстинкт, показывающий, что тебе не нравится. Роуз Тарлоу, которая делала дизайн интерьера для дома Геффена, сказала мне еще до моего посещения дома: «Дэвид знает, чего он хочет. Вернее, он знает, чего он не хочет. Он очень четко определил для себя, что ему подходит, а что – нет. Но он никогда не скажет, что конкретно делать – какой использовать стиль, какого периода. Он просто понимает. Он может войти в комнату и увидеть какой-то маленький фрагмент в углу и тут же сказать: “Это сюда не подходит”. Просто удивительно! Невероятно!».
В спальне на втором этаже единственным украшением был флаг Джаспера Джонса. Дальше по коридору – в бывшем детском крыле – располагались спальня для гостей и спортзал, полный сверкающих тренажеров. Спортзал был единственной комнатой в доме, где легко можно было представить Геффена. Во всех остальных он, казалось, чувствовал себя неуверенно.
Одна из комнат была сохранена в первоначальном виде – «кожаный» кабинет Джека Уорнера с примыкающим гардеробом. Это казалось величайшим актом присвоения: Геффен триумфально поедает сердце бывшего владельца дома. Мужские расчески и лекарства лежали на столе, как будто Уорнер оставил их там сегодня утром. Геффен сказал, что окна в прилегающей ванной убрали, а часть кожи нуждалась в замене, но найти мастера, который сделал бы эту работу, было невозможно. «Поэтому мы… Ну, вы видите, что мы сделали». Он показал мне найденное решение: покрашенные панели, выглядящие точь-в-точь как первоначальные кожаные.
Похоже, воздействие этого дома на Геффена мало отличалось от воздействия на него других мест, в которых он находился. Быть Дэвидом Геффеном означало еще и не реагировать на то, что могло ослабить его утонченные инстинкты. Даже святая святых Джека Уорнера, «кожаный» кабинет, был для Геффена всего лишь обычной комнатой для телефонных разговоров.
8. Нет места в Шуме
Я присутствовал на дискуссии на тему «Книгоиздание: смерть или жизнь», организованной «Нью-Йоркером» в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Около полутора сотен представителей книгоиздательского сообщества собрались холодным октябрьским вечером в зале Селест Бартос – храме аристократической культуры, выполненном в стиле рококо, чтобы послушать дискуссию представителей разных интересов в издательском бизнесе. (На той неделе, конечно же, журнал вышел со специальным выпуском, посвященным книгоизданию.)
В середине вечера Синтия Озик, автор книг, имеющих литературную ценность, но ограниченный коммерческий успех, высказала традиционный призыв поддерживать писателей «среднего звена», тех, кто пишет книги для старой аристократической культуры, книги, в которых присутствуют история, традиция, мудрость и интеллект, – «хорошие» книги. Увы, эти достойные авторы не могли продать большого количества своих книг в «супермаркете», где Синтии Озик, например, приходилось конкурировать с Марком Фурманом и Эндрю Мортоном, и это было, по их мнению, нечестно. Озик завершила свое выступление красноречивой тирадой в пользу «хороших» книг, встреченной аплодисментами сочувствующей части аудитории.
Когда Озик закончила, еще один участник дискуссии, глава сети книжных супермаркетов Barnes & Noble Леонард Риджио сказал: «Знаете, Синтия, у меня случайно оказались с собой цифры по продажам ваших книг». Затем, глядя в компьютерную распечатку, он сообщил аудитории, что недавно вышедший сборник «лучших текстов» Синтии Озик был продан в количестве всего нескольких сотен экземпляров. Он задал вопрос: «Так почему издательства должны поддерживать книгу «среднего звена», которую читатели определенно не хотят покупать?».
Пока шокированная этим откровением публика сидела затаив дыхание, я подумал о собственных «цифрах» – об этом «приземленном» показателе успеха моей первой книги «Глубже: моя двухлетняя одиссея в киберпространстве». Поскольку моя книга была посвящена интернету, то есть поп-культурной теме, издатель был убежден, что она станет товаром для «супермаркета», а может быть, даже бестселлером, и мне был выплачен большой аванс. Я, в свою очередь, принял этот аванс как подтверждение того, что пишу бестселлер; вряд ли издатель заплатил бы мне такую большую сумму, если бы не был уверен, что сможет ее вернуть. Кроме того, выплата аванса давала издателю стимул продвигать книгу гораздо более активно.
Но, тем не менее, книга провалилась. Я применил к интернету весь свой культурный капитал, как меня когда-то учили: рассмотрел такие современные феномены, как электронная почта, чаты, киберсекс и домашние страницы, в свете ценностей западной цивилизации, пытаясь понять, что хорошо, а что плохо, и отобрать все лучшее, что существует в этом изобретении. И в результате я написал книгу, которая не была ни высокоинтеллектуальным литературным трудом, ни упрощенным гидом по интернету, но некоей непродаваемой комбинацией того и другого, жутким гибридом.
Стоя в напряженной тишине, последовавшей за словами Риджио, я знал, что где-то в том самом компьютере, который выдал цифры продаж книги Озик, хранятся и смешные цифры продаж моей книги – плохая кредитная история моего культурного капитала. И я не относился к рынку с такой романтической отстраненностью, чтобы не понимать, на что коммерческий провал моей книги обрекал мои литературные перспективы. («Знаете, Джон, у меня случайно оказались с собой цифры по продажам ваших книг…»)
Какое-то мгновение благородная издательская аудитория не знала, обидеться ли на слова Риджио, прийти от них в ужас или же, подобно буддистскому монаху, которому стражник только что сломал ногу, почувствовать озарение. Затем под золотыми сводами зала начал раздаваться негромкий, но отчетливый свист. Эти благородные законодатели вкусов, последние могикане издательского мира старой иерархии «высокого» и «низкого», освистывали Риджио, а он сидел с самодовольным видом, ведь от него действительно зависели продажи книг.
* * *
Под руководством Тины Браун финансовые дела «Нью-Йоркера» несколько улучшились, но в какой-то момент, в начале 1997 года, рост доходов затормозился, а потом рекламодатели снова начали один за другим отпадать. Шли месяцы, и стало ясно, что Тина не сможет отпраздновать пятилетие своего редакторства новостью, что журнал наконец-то снова начал приносить прибыль, а ведь слабый огонек надежды уже начал было светиться на «этаже смерти». Что бы ни делалось, этого было недостаточно. Журналу нужно было больше специальных выпусков, больше маркетинговых мероприятий, больше вечеринок для авторов, больше заказанных столиков на официальных приемах ПЕН-центра и Совета моды, больше лимузинов, припаркованных в три ряда у ресторанов, где проходили торжественные ужины «Нью-Йоркера», и больше звездных ужинов в квартире Тины и ее мужа Гарри Иванса на Пятьдесят седьмой улице. Но Браун при всей своей поразительной энергии и блеске не могла превратить «Нью-Йоркер» в коммерчески успешную, но более интеллектуальную версию Vanity Fair. Вообще, это была неплохая идея: умная статья о Томе Крузе или умная статья о Мадонне. Сам Уильям Шон время от времени публиковал такие статьи – вроде эссе Трумена Капоте о Марлоне Брандо или Лилиан Росс о Луисе Мэйере. Но в ноубрау доступ к знаменитостям, необходимый, чтобы написать умную статью, серьезно осложнился. Поскольку поп-культура вообще и знаменитости в частности осознали свою важность для успеха журналов – в особенности это касалось продаж в уличных киосках, – редакторам и журналистам пришлось еще в большей степени жертвовать своей независимостью, чтобы заполучить звезду, а окружение этой звезды – пиарщики, люди из отделов корпоративных связей, пресс-агенты и прочие – давали в ответ гораздо меньше.
Могущественные пиарщики стали законодателями вкусов в ноубрау. «Понимаете, есть некоторые звезды, например Том Круз, чье лицо обеспечит продажу энного количества экземпляров, – говорила мне Сьюзан Лайн, когда была редактором журнала Premiere. – И тебе приходится помещать их на обложку, потому что журнал должен продаваться в киосках. Ты это знаешь, и они тоже это знают». Возможно, «Нью-Йоркер» мог предложить Тому Крузу что-то такое, чего не мог предложить Vanity Fair: он мог добавить к его имиджу класс, престиж, ум и некоторый глянец, и это было бы привлекательнее ослепляющего света прожекторов, которым была практически вся журналистика, когда дело касалось знаменитостей. Но нужно ли было это Тому Крузу? И опять же, с какой стати пиарщик, контролирующий доступ к Тому Крузу, поверит намерениям Тины Браун опубликовать в «Нью-Йоркере» интеллектуальную статью после того, как она с удовольствием поливала всех грязью в Vanity Fair? Я разговаривал с главной пиарщицей Тома Круза Пэт Кингсли в «салоне скорби» в PMK в Лос-Анджелесе, где журналисты продавали свои души (для моей беседы также требовалась тщательная подготовка, потому что Пэт назвала Тину «пиздой» в бытность той редактором Vanity Fair). Кингсли сказала мне: «Самое интересное – это свести актера с правильным фотографом и правильной концепцией, и чтобы это все сработало». Она говорила почти как редактор.
Так где же пролегала та разграничительная линия в культуре «супермаркета», рядом с которой «Нью-Йоркер» мог бы высадить десант? Журнал оказался в мертвой зоне между двумя «сетями». Он не мог посвятить себя только культуре «малой сети», потому что тогда ему пришлось бы пожертвовать глубоко укоренившимися в нем среднеинтеллектуальным здравомыслием и отстраненностью. Но «Нью-Йоркер» не мог заниматься и одной лишь «большой сетью», потому что тогда он превратился бы в еще один «журнал верхнего сегмента». Может быть, выход был в том, чтобы ловить тенденции «малой сети» в тот самый момент, когда они переходили в «большую сеть», но перемены происходили так стремительно, что ни одному журналу не удавалось попасть в эту зону повышенной чувствительности чаще, чем несколько раз в год.
Следующий номер, спецвыпуск, посвященный тенденциям и прогнозам, вышел в атмосфере не слишком тихого отчаяния. Концепция «Следующего» включала в себя описание низкоинтеллектуальных тенденций и поверхностный Шум для рекламодателей, что привело бы Уильяма Шона в ужас. Для журналистов статья для «Следующего» означала внешне незаметную, но, тем не менее, серьезную перемену; это был своего рода Рубикон, разделявший высокоинтеллектуальные и утилитарные импульсы в журналистике. Прогнозы тенденций были словно большой палаткой, в которой культура и маркетинг оказывались в одной постели. Если ты писал о технологии, трудно было избежать модных терминов. Если ты писал о новой поп-звезде, то соревновался со всеми молодежными журналами в киоске, и это не было сильной стороной «Нью-Йоркера». Однако тот Шум, который спецвыпуск привнес в журнал, помог продать много рекламы – в «Следующем» ее было больше, чем в любом другом номере, и я подумал, что если этот трюк необходимо проделывать раз в год, чтобы сделать журнал прибыльным, то пусть так и будет.
Энергия Тины нашла выход в организации конференции, приуроченной к выходу «Следующего». Она лично пригласила шестьдесят человек, надеясь на плодотворную дискуссию. В приглашении было сказано, что будет присутствовать «эклектичная группа, члены которой объединены тем, что они определяют и создают будущее». Местом для конференции был выбран Институт Диснея, строительством которого Майкл Айзнер пытался купить себе за 35 миллионов долларов место в высокоинтеллектуальной элите. Первую конференцию финансировал Сай Ньюхаус – этого добилась от него Тина, – но предполагалось, что в будущем журнал будет взимать плату за участие и гости будут давать хорошие деньги за привилегию доступа к законодателям моды ноубрау, а также к знатокам и интеллектуалам, которые делают «Нью-Йоркер».
Я заработал себе приглашение на конференцию, согласившись написать статью о взаимоотношениях художника и менеджера при производстве культурного продукта в девяностые годы. Этой же теме была посвящена одна из дискуссий конференции, где в качестве вечернего развлечения должны были присутствовать такие персоны, как Харви Вайнштейн, Барри Диллер и Нора Эфрон. Кем был в этом случае я: журналистом или организатором мероприятия, художником или менеджером? Сложно сказать.
В тот вечер в Институте Диснея, среди летних домиков, пальметто и кинозвезд, катающихся на электромобилях по извилистым дорожкам, все безумие пяти лет редакторства Тины Браун, казалось, взорвалось над нашими головами, как фейерверк над Волшебным Королевством. Конференция воспринималась как начало новой эры корпоративного покровительства. Это действительно было будущее – будущее отношений между теми, кто поставлял контент (находясь на конференции, трудно было думать о себе как о журналисте), и теми, кто покупал его и занимался дистрибуцией. На приветственном вечернем коктейле, где законодатели мод и творцы будущего встретились, чтобы услышать вступительное слово Майкла Айзнера – «папы римского» ноубрау, – можно было отчетливо различить будущее, и оно напоминало времена, предшествовавшие Римской империи, когда идея доминирующей реальности художника еще не появилась. И для театрального художника в корпорации Диснея, и для пятнадцатилетнего музыканта с контрактом на альбом в кармане, и для художника-инсталлятора, претендующего на премию Hugo Boss, и для молодого компьютерного графика, работающего на «Лукас-фильм», и для журналиста «Нью-Йоркера» творческая свобода больше не зависела от сопротивления рынку. Свобода теперь зависела только от умения найти корпоративного покровителя. Этим мы здесь и занимались – пытались «лечь под покровителя».
Все в «Нью-Йоркере» приняли в этом участие, никто не хотел плыть против течения и поднимать вонь на публике. Почему бы не посидеть допоздна в компании с модным голливудским продюсером и симпатичной ведущей MTV, процитировав, махнув рукой в сторону Айзнера, строчки Боба Дилана «Сейчас все бандюганы в костюмах и галстуках, пьют мартини и смотрят на закат»?
Но днем, во время дискуссий, все пытались познакомиться с боссами, преодолевая предубеждение к коммерческой стороне и стараясь найти правильное соотношение между деньгами и культурой, которое служило бы творческим интересам, не отнимая при этом независимость.
Для меня последним воспоминанием о конференции был эпизод, когда Тина и Том Флорио (в то время издатель «Нью-Йоркера», не задержавшийся, впрочем, долго на этом посту), выбежали из аудитории, где Майкл Айзнер произносил заключительную речь, чтобы вскочить в автомобиль и помчаться к частному самолету Харви Вайнштейна. Насколько я помню, они даже держались за руки, но, возможно, я это придумал. Они выглядели как жених и невеста, которых насильно тащат под венец, где маркетинг должен сочетаться браком с культурой, а папа римский с улыбкой благословляет этот союз. Когда через восемь месяцев я узнал, что Тина уходит из «Нью-Йоркера» и будет работать под началом Харви Вайнштейна в компании «Мирамакс», снимающей дорогие коммерческие фильмы и принадлежащей корпорации Диснея, я вспомнил этот момент свадебного торжества.
Тем вечером, вернувшись в Нью-Йорк, я подвез на машине из аэропорта одного молодого журналиста, который тоже присутствовал на конференции.
«Что ты думаешь об Айзнере?» – спросил я его, ожидая услышать традиционную умеренную похвалу или критику типа: да, он занимательный, но это же Антихрист и т. д. На утреннем заседании конференции один из редакторов сказал Айзнеру, сидевшему в аудитории с микрофоном, что тот зарабатывает 96 тысяч долларов в день, тогда как средний гаи тянский рабочий, делающий куклы Покахонтас для корпорации Диснея, в среднем зарабатывает всего 2,6 доллара в день, и спросил: «Не могли бы вы это прокомментировать?». Айзнер ответил достаточно резко, и несколько сторонников коллективного подхода из «Нью-Йоркера» позже говорили мне, что задавать такие вопросы – дурной вкус. В конце концов, все мы пользовались гостеприимством Айзнера, и атаковать его на публике было нецивилизованно и вовсе не в стиле «Нью-Йоркера».
Молодой журналист повернулся ко мне и сказал с абсолютной убежденностью: «По-моему, Майкл Айзнер – гений. Я бы с удовольствием у него работал».
Моя голова откинулась назад, как будто меня ударили кнутом по лицу. Я скосил глаза, чтобы посмотреть, не шутит ли мой коллега. Нет, он был, конечно же, серьезен. Как и Тина Браун несколько месяцев спустя, этот журналист решил, что у него будет больше творческой свободы в журнале, издаваемом корпорацией Диснея, где понятия Уильяма Шона о творческой свободе никогда и не рассматривались и где культура и маркетинг были так же близки, как Микки и Минни.
У меня в мозгу вспыхнула картинка из мультфильма, на которой койот случайно делает шаг с края обрыва, но не понимает этого и потому не падает.
* * *
В бродвейской подземке я читаю последние новости о скандале с Моникой Левински в газете «Нью-Йорк пост» и слушаю группу Wu-Tang Clan. Как и Раушенберг, эта группа создает свое искусство из обрывков утилитарной культуры, найденных вокруг себя, обычно в телевизоре: рестлинг, мультфильмы, гонконгские боевики, Пэт Сайак, мороженое «Хааген Даз» перемешаны у них с правдоподобными зарисовками уличной жизни. Похоже, эти ребята не знают ничего о том, что происходило до середины семидесятых – времени, когда они появились на свет. Если рассказать «Старому Грязному Уроду» или «Убийце Привидений» о Второй мировой войне, они скажут: «Вау, это круто», как будто историю можно свернуть в косяк и закурить. Но они – настоящие артисты, они точно отражают тот пост-джеймсовский поток урбанистического сознания, который ощущают все жители мегаполиса.
Поднимаясь из метро на Тайм-сквер, я посмотрел наверх, и первое, что я увидел, была возвышающаяся надо мной стальная конструкция нового здания Condé Nast, большой магазин Gap на южной стороне здания и огромный магазин Warner к западу. На строительных лесах висела реклама Кельвина Клайна – модели в нетипичных позах, снятые под открытым небом. В этом здании должны расположиться редакции всех шестнадцати журналов издательского дома Condé Nas , включая «Нью-Йоркер». Да, и «Нью-Йоркер». «Мы» тоже готовились переехать на Тайм-сквер.
Купив журнал, Сай Ньюхаус пообещал, что Уильям Шон сможет остаться редактором столько, сколько сам пожелает, но это было только на словах. Однако он дал письменное обещание, что «Нью-Йоркер» «будет работать независимо, как отдельная компания» и что «все существующие подразделения, включая бухгалтерию и отдел распространения, отдел кадров и производственный отдел, будут работать независимо от других журналов владельца». Новость о том, что «Нью-Йоркер» на самом деле становится частью журнальной империи, появилась месяц назад без особого шума в виде меморандума от Тома Флорио, сунутого под дверь каждого кабинета и объясняющего, что ввиду «изменений в организации бизнеса» новое здание «даст нам значительные преимущества и мы планируем в него переехать».
Странно, но новость не оказалась даже слишком удивительной. В атмосфере президентской уклончивости представление о том, что человек должен держать данное слово, выглядело несколько старомодно. Слово Сая продержалось четырнадцать лет, и это было неплохо. В наше время. И все-таки, хотя все, что Уильям Шон считал «свободой», давно ушло, и мы по уши погрязли в Шуме, переезд в корпоративную башню вместе с другими журналами империи Сая не мог не разочаровывать.
В любом случае, это не была вина Ньюхауса. Если в будущем «Нью-Йоркеру» суждено существовать – если, конечно, он вообще будет существовать – под патронажем Ньюхауса, который компенсировал бы убытки журнала доходами от Vogue, Glamour и Vanity Fair, было бы несколько странно ожидать, что журнал или его авторы сохранят свою прошлую славу. Свобода была ценой, которую мы заплатили за выживание.
За годы своего редакторства Тина стала настоящим гением в том, что касалось привлечения к журналу внимания. Она выпускала качественный продукт для массовой аудитории – нечто вроде сериала Frasier для газетных киосков. Но журналу не удавалось заставить рекламодателей хорошо платить за то внимание, которое привлекала к журналу Тина. Удивительно: тираж журнала увеличился (хотя оппоненты Тины и утверждали, что это было достигнуто за счет паблисити и снижения цен на подписку), и продажи в киосках были великолепными, и Шум был повсюду – он пухлыми облаками висел над редакцией целыми днями. Но реклама продавалась плохо. Если бы журнал был телепрограммой, то ее высокие рейтинги более или менее линейно преобразовывались бы в доходы от рекламы. Но в журнальном бизнесе (более старом, чем телевизионный), все было немного по-другому. Разделение «церкви и государства» – контента и рекламы – слишком прочно укоренилось в культуре.
Вокруг нас существовали и успешные примеры браков между высокой и поп-культурой. Был профинансированный Диснеем мюзикл «Король Лев» – моментом ноубрау в нем стало то, что великолепно изготовленные авангардные маски Джулии Теймор – настолько великолепно, насколько это мог себе позволить только производитель трэш-культуры вроде Диснея – впервые появились в театре. (В «Короле Льве» присутствовали настоящие джунгли – джунгли искусства и коммерции, виднеющиеся за многомиллионными декорациями.) Британская техногруппа T e Orb исполняла оркестровую компьютерную музыку, и эта поп-музыка по своей сложности соответствовала стандартам Милтона Бэббитта в его текстах о модернизме. Режиссер Гас Ван Сент снимал клип для группы Hanson, а Элтон Джон пел свою песню «Свеча на ветру» в Вестминстерском аббатстве на похоронах принцессы Дианы. Главное влияние на лучшего португальского гитариста в стиле фадо оказал Джеймс Браун, а реклама Хельмута Ланга была установлена на крышах такси.
Кроме того, наблюдался настоящий читательский бум. Книжные супермаркеты Borders и Barns & Noble были полны людей, которые читали, читали, читали… Университеты выпускали больше читателей, чем когда-либо в истории. Книги, которые было интересно читать, – «хорошие» книги вроде «Холодной горы» и «Пепла Анджелы» – возглавляли списки бестселлеров, а молодежь выстаивала длинные очереди, чтобы попасть на чтения Салмана Рушди или Мартина Эмиса. Ясно, что «Нью-Йоркер» мог бы попасть в эту струю. Но ни редакторы на этаже под нами, ни рекламный отдел на верхнем этаже не могли понять, что для этого нужно. Главная проблема была в том, чтобы провести границы внутри безграничных трэшевых пространств Шума, вместо того чтобы проводить границы по принципу сопротивления Шуму, как это делал Уильям Шон. И решить эту проблему оказалось сложнее, чем кто-либо мог подумать.
* * *
Снова был январь, и снова было холодно. Я прошел мимо здания Condé Nast и влился в узенькую струйку прохожих, вынужденных обходить стройплощадку. Я заглянул в дыру в заборе и увидел хаос из стали, проволоки, бетона и земли. Скоро там появится ресторан ESPNZone.
На Сорок третьей улице я посмотрел на экран. Три дня назад президент давал показания по делу Полы Джонс, а сегодня у него под присягой спрашивали, имел ли он половые отношения с Моникой Левински. Я начинал привыкать, что узнаю какую-нибудь удивительную новость из личной жизни президента на канале MSNBC, одновременно глядя на индекс деловой активности Доу-Джонса в углу экрана. Это позволяло сделать вывод, как этот показатель среагирует на только что объявленную ужасную новость. Рейтинг Клинтона оставался высоким, тогда как индекс доверия к нему падал, что было само по себе удивительным. Возможно, объяснение в том, что люди уже настолько запутались в происходящем, что рейтинги лишь отражали маркетинговые усилия, предпринятые Клинтоном. Но было совершенно непонятно, как индекс Доу-Джонса, этот гораздо более пуританский судья, а вернее числовое выражение безжалостного пуританского сердца, управлявшего капиталистической экономикой, мог оставаться на таком высоком уровне.
Но он оставался. За год, что прошел с тех пор, как я слушал призыв Клинтона к личной моральной ответственности каждого, стоя на этом самом месте, и индекс Доу-Джонса, и рейтинг президента остались высокими, хотя моральный авторитет президента лежал в руинах у его ног. Подобно тому как народ продолжал поддерживать президента, не имевшего больше морального авторитета, он был готов вкладывать огромные деньги в интернет-компании, которые никогда не приносили прибыли. Старое понятие о том, как важно говорить правду, угасло вместе с понятием о том, что зарабатывать надо честно. Все свелось к фальшивой добродетели и фальшивой прибыли. Билл Клинтон перенес с собой поп-культурное понятие стиля на самый высокий в стране пост: он умел изображать честность, будучи абсолютно нечестным.
На углу Бродвея и Сорок третьей улицы я встретил журналистку «Нью-Йоркера», которую знал еще с тех времен, когда пришел в журнал при Готтлибе. Мы стояли с ней на холоде, омываемые желтым сиянием Тайм-сквер, глядя на новый офис редакции. Скоро на том месте, где мы стояли, должно было появиться электронное табло индекса NASDAQ высотой с восьмиэтажный дом – крупнейшее на Тайм-сквер.
– Знаешь, что меня бесит? – спросила журналистка, глядя на здание Condé Nast. – Люди думают, что могут так себя вести по отношению к нам. В смысле, что Сай Ньюхаус врал. Он сказал, что не уволит Шона, но он его уволил. Он сказал, что «Нью-Йоркер» не переедет, и вот мы переезжаем. Понимаешь? Я просто хочу, чтобы это признали. – Мы постояли некоторое время в молчании. – Я, наверно, напишу письмо, – сказала она.
Я сказал, что был бы обеими руками за то, чтобы написать письмо, если бы это что-то дало, но это ничего не даст. Шон в свое время написал открытое письмо общественности и к чему это привело? Силы вне нашего контроля и все такое. Я попытался вспомнить какие-нибудь строчки из «Комментария» Шона, написанного в 1985 году, чтобы после покупки журнала Ньюхаусом заверить читателей в том, что дух старого «Нью-Йоркера» будет сохранен. «Но что значит эта редакционная независимость? В чем она заключается на самом деле? Это просто свобода. Свобода говорить то, что мы считаем правильным, писать то, что мы хотим… Без внешнего вмешательства, без страха, без ограничений, в противовес коммерческим соображениям и любым другим соображениям, кроме нашей совести и ответственности». «Ответственность», снова повторилось это слово. «И если какой-то один принцип должен возвышаться над всеми остальными, то это необходимость говорить правду. “Нью-Йоркер” будет продолжать меняться, как он уже изменился за эти годы, но наши принципы и стандарты останутся теми же, что были до сих пор. Зная это и получив от будущих владельцев гарантии, которые мы у них попросили, мы уверены, что “Нью-Йоркер” – не просто журнал, носящий это имя, но именно этот журнал – сохранится». Наконец, Шон снова вернулся к вопросу о редакционной независимости. «Мы заявляем это в новой форме. Мы уверены, что Ньюхаусы отнесутся к этому с уважением». Какая потеря влияния ощущалась в этом «мы»! Не просто «мы» применительно к «Нью-Йоркеру», но «мы» применительно к цивилизации в том виде, в каком она существовала до сих пор.
Журналистка спросила, что слышно о Тине, и я ответил, что не знаю. Мы оба все еще старались смириться с фактом, что Тина уходит. В последний раз я видел Тину в ее офисе. Там присутствовали Стив Уинн, владелец казино, и Дэвид Кун, исполнительный редактор, и она пыталась убедить Уинна принять у себя следующую конференцию «Нью-Йоркера» в его новом отеле Bellagio в Лас-Вегасе, одновременно пытаясь убедить меня написать статью о Стиве Уинне и строительстве Bellagio. В какой-то момент, когда Уинн пустился в разглагольствования о красотах Bellagio, где богачи играют в казино в присутствии высокого искусства, Тина бросила на меня взгляд, словно говорящий: «Это было бы великолепно!». Я уже готов был взяться за статью, хотя ее написание наверняка закончилось бы катастрофой. Тина была, как сказал когда-то Троу, великолепной девушкой в неподходящем наряде. «Нью-Йоркер» – его история, его традиции, его место в уникальной американской культуре – никогда не подходил ей, да она никогда и не пыталась исправить положение. В любом случае, журнал не подчеркивал всех ее преимуществ, чего обычно ожидают от правильно подобранного наряда.
Следующая конференция так и не состоялась, потому что две недели спустя Тина исчезла – именно! – в облаке Шума, из которого и появилась. В то утро, когда она ушла, я сидел дома и писал, и мне позвонил приятель-редактор, а ему про ее уход рассказал один из журналистов. И как и шесть лет назад, я сказал, что этого не может быть. Тина Браун не могла уйти из «Нью-Йоркера»! Я позвонил в редакцию и узнал, что это правда, потом поехал в журнал и понял, что никто не знает, что сказать по этому поводу. Тина спасла «Нью-Йоркер» от забытья, и за это мы все были ей очень благодарны, но она так и не смогла воплотить в жизнь свое понимание того, каким должен быть журнал, и сейчас все вы глядело так, будто она бросила нас в беде. (Уже неделю спустя, когда редактором стал Дэвид Ремник, журналист «Нью-Йоркера» и лауреат Пулитцеровской премии, ситуация уже не выглядела такой трагической, и все испытали облегчение.)
Но когда Шум утих и стало возможно спокойно посмотреть по сторонам, вот что вы увидели: большую, высокомерного вида офисную башню посредине Тайм-сквер и рекламный хаос вокруг вас. С того самого момента, как летом 1998 года с этого здания упал кусок строительных лесов, убив в отеле «Вудсток» пожилую женщину, – Тайм-сквер был потом перекрыт на целую неделю, – о новом здании стали говорить, что оно приносит несчастья. Многие сотрудники Condé Nast с опаской посматривали на него. Редактор Vanity Fair Грэйдон Картер провел церемонию «фэн-шуй» на своем этаже, прежде чем его журнал переехал в новый офис.
Для меня все это было настоящим ноубрау – это здание здесь у меня перед глазами. Так выглядит мир после эпохи «низкого» и «высокого». Теперь осталась, по-моему, одна середина, но это не та старая середина, потому что больше нет «высокого» и «низкого», чтобы ее можно было определить. Архитекторы обосновали свой дизайн идеей, что редакционные офисы всех журналов должны быть в одном стиле независимо от того, «Нью-Йоркер» это, Vogue или Mademoiselle. Любая культура, свойственная конкретному журналу – например, небрежный аристократизм «Нью-Йоркера», – тщательно вычищалась, заменяясь нейтральным офисным дизайном. Ничего из старой мебели не собирались перевозить в новое здание. Все эти старые столы, которые были хороши только в том случае, если вы знали, что за ними сидели И. Би Уайт или Джозеф Митчелл, должны были остаться в наследство новому арендатору – рекламной фирме, которая снимала офис с мебелью. Стиль новой редакции описывался как «отличный итальянский офис»: встроенная модульная мебель, эстетически приятная, эргономичная, компактная и безопасная для окружающей среды. Кабинеты подразделялись на четыре категории – A, B, C и D в зависимости от места, занимаемого в иерархии компании. Мне достался кабинет категории C – без окна. Но у меня хотя бы был свой кабинет. Некоторым другим журналистам повезло меньше.
Итак, тот же самый процесс, что происходил вокруг нас на Тайм-сквер – перековка субкультуры в массовую культуру, – скоро должен был начаться и внутри этого здания. В ноубрау все, в конце концов, сводится к одному и тому же. Тайм-сквер и Сохо становятся одним и тем же. Шум не переносит различий.
Для меня независимость была возможна только внутри системы – внутри корпоративного здания. Старое понятие независимости основывалось на романтическом понимании культуры, вынесенном из университета. Это понимание, казалось, находило свое воплощение в старом «Нью-Йоркере», но было неприменимо к эпохе ноубрау, где пять или шесть глобальных медиакорпораций контролировали все – одни – культуру, другие – маркетинг, а некоторые – и то и другое, – и я был для них лишь одним из миллионов создателей контента. Голодающий художник, мечтатель, неспособный заработать на жизнь своим искусством, потерял свое значение как культурный архетип. В ноубрау его заменил харизматичный жулик – двадцатилетний парень, снимающий фильм за деньги на родительской кредитке. Ему не придется голодать, если фильм провалится; он переведет свой долг на другую кредитку с шестимесячной отсрочкой платежа под шесть процентов годовых и попытается снова снять фильм.
Дрожа от холода у подножья небоскреба, в котором должны были умереть последние представления Уильяма Шона о редакционной независимости, я почувствовал, что достиг нулевого меридиана ноубрау – места, где сливаются культура и маркетинг.
Послесловие Маркетинг культуры маркетинга маркетинга культуры
Всем привет! Я в Миннеаполисе, занимаюсь продвижением книги Nobrow. В перерыве между сегодняшними мероприятиями мой сопровождающий отвез меня в Mall of America. Это крупнейший торговый центр в мире. Там есть целая деревня, построенная из конструктора «Лего». Я отвечал по телефону на вопросы журналиста из Милуоки, бродя по гигантскому спортивному магазину. Там продается такая спортивная экипировка, о которой я никогда не слышал, хоть и интересуюсь спортом.
На обратном пути мы зашли в Barns & Noble посмотреть, продается ли там книга. Нам понадобилось немало времени, чтобы ее отыскать. Уже после выхода Nobrow я понял, что если контентные категории «культуры» и «маркетинга» определенно объединились, то маркетинговые категории, основанные на них, по-прежнему существуют отдельно друг от друга. В магазинах Barns & Noble Nobrow стоит в отделе культурологии, а в магазинах Borders – в отделе маркетинга и рекламы. Как следует поискав, мы обнаружили четыре экземпляра книги, я подписал их и оставил у продавца. Увидев свою книгу в качестве товара, главный продавец которого – я сам, – в этом гигантском торговом центре, я почувствовал, что проект, начатый тем холодным январским утром в мегасторе Virgin три года назад, пришел к своему логическому завершению.
Сейчас я снова в своем номере в отеле Marriot Courtyard. Перед этим я выпивал в баре и одновременно смотрел шоу «Как стать миллионером?» с барменом и бизнесменом из Денвера Джимом. Слышали ли вы про писателя, книга которого была ниже стотысячного места в рейтинге продаж интернет-магазина «Амазон», но взлетела до третьего места после того, как он принял участие в передаче «Как стать миллионером?» и упомянул там свою книгу? Это, в свою очередь, помогло ему попасть на передачу Today Show – о такой раскрутке писатель может только мечтать. Лучше бы мой издатель, вместо того чтобы отправлять меня в рекламный тур по стране, потратил свои ресурсы на то, чтобы просунуть меня в шоу Реджи. И это было бы совершенно в стиле ноубрау.
Сегодня первый участник шоу – инженер из Теннесси. Вопрос на тысячу долларов иногда помогает сразу понять, чего стоит игрок. Что за телевизионная семья жила по адресу Мокинберд-лэйн, дом 13: Адамсы, Мунстеры, Партриджи или Хаскеллсы? Я практически уверен, что это Партриджи, и говорю об этом вслух специальным голосом – таким, каким я разговаривал бы, если бы смотрел футбол, но чуть тише. Я смотрю на Джима, ощущая прилив близости к этому командировочному бизнесмену, но ему наплевать на мое дружелюбие. Инженер на экране колеблется и использует свое право попросить помощи у аудитории. «О, нет», – говорю я. Аудитория подавляющим большинством голосует за Мунстеров. Аудитория, конечно, права. После этого я молчу. Может, мне и не стоит пытаться попасть на передачу.
Я поужинал в ресторане внизу, и теперь я снова в своем номере, сижу на кровати. По телевизору транслируют прогноз погоды, мне нужно знать, какая погода в Лос-Анджелесе, где я должен быть завтра вечером. Метеорологи делают свои предсказания уверенными, но не слишком навязчивыми голосами, затем компьютерная карта, показанная через мгновение после их предсказания, подтверждает их слова, словно приводя дополнительный аргумент. Мне надо научиться говорить на своих выступлениях так, как эти метеорологи: спокойно, уверенно, твердо.
* * *
Некоторые писатели не любят ездить по стране, продвигая свои книги, но я ничего не имею против. Чего я не люблю, так это кратких телевизионных интервью, хотя они лучше всего помогают продажам. Телевидение настолько же фальшиво, насколько радио нефальшиво. Оно создает ощущение, что эта приятная интимная беседа проходит в уютной комнате, тогда как на самом деле мы сидим в середине темного, холодного, похожего на пещеру склада с черными стенами и бетонным полом, и пузатые мужики, от которых воняет, как от пепельницы, прикалывают тебе микрофон. Сами люди, с которыми ты имеешь дело на телевидении, не фальшивые, но твои отношения с ними фальшивы. Они основаны на лести, часто используемой, чтобы скрыть истинные намерения продюсера или журналиста. Современная культура масс-медиа кажется мне похожей на времена Людовика Шестнадцатого: утонченная вежливость, за которой скрываются эгоизм и обман.
А вот радио мне нравится. На радио у тебя есть время. Получить пятнадцать минут с ведущим, чтобы изложить свою идею, а потом ответить на звонки, – я ценю такую возможность. И здесь, в стране Джесси Вентуры, существует много тем для обсуждения в рамках ноубрау. В Институте искусства Миннеаполиса проходит выставка «Звездных войн», и сотрудники музея очень довольны посещаемостью. На радиостанции классической музыки WCAL ведущий, который берет у меня интервью, говорит, что ситуация в «Нью-Йоркере» под руководством Тины Браун абсолютно соответствует нынешней ситуации на этой радиостанции. Старая гвардия сопротивляется переменам, жалуется на снижение стандартов при каждой попытке привлечь молодых слушателей чем-то из области поп-культуры. Джоэл Скалли, ведущий передачи на общественном телевидении Блумингтона, для которой я сегодня записал интервью, сказал мне, что, по всей видимости, интеллектуалы смирились с дурным вкусом – рестлингом, порнографией, Дональдом Трампом – из-за Шума, который подобные темы поднимают. Я сказал, что происходит и обратный процесс. В Чикаго во всех магазинах перевод «Беовульфа», сделанный Симусом Хенли, был полностью распродан. Значит, высокоинтеллектуальные вещи принимаются мейнстримом. Но и то и другое говорит о том, что важность вкуса в его среднем элитарном понимании упала.
Поездки по стране для продвижения книги напоминают мне древнюю схоластическую традицию viva vocе – «живого голоса», через которую я прошел в Оксфорде. Там недостаточно было написать дипломную работу, нужно было еще устно защитить ее, отвечая на вопросы аудитории, и вся твоя писанина не могла тебе при этом помочь. Время от времени кто-то заваливает диплом, отдав на суд аудитории софизмы своей литературной логики. И поездка для продвижения книги – коммерческий эквивалент того же самого процесса. Разница лишь в том, что писателю противостоит не объективная критика, а сомнительные источники, непроработанные герои книги и прочие недовольные, которые выскочат, как черт из табакерки, именно тогда, когда ты объезжаешь страну с чтениями.
Viva voce ноубрау я, похоже, нашел в ирландском баре «Роки Салливан» на Двадцать восьмой улице в Нью-Йорке, где американский писатель ирландского происхождения Си Джей Салливан (не имеющий к названию бара никакого отношения) организовал для меня чтения. Я выбрал отрывок из первой главы, где иерархия «высокого» и «низкого» четко объясняется на примере «Нью-Йоркера». Я читал этот же самый фрагмент в модном местечке в центре города под названием «Хало», и он неплохо подошел для местной тусовки. Но здесь, в «Роки Салливан», где сидели в основном моряки, сошедшие на берег, чтобы выпить пива и повеселиться, это было ошибкой. Я был похож на богатого придурка. О чем я думал?!
Минут через десять после начала чтения, проплыв мимо описаний «высокого» и «низкого» в мегасторе и достигнув описания своей встречи с Бобом Готтлибом, я обратил внимание на крупного парня зловещего вида у стойки, который как-то странно дергался, словно я вызывал у него физическое отвращение. Он что-то говорил. Или это мне показалось? Да, он пытался меня перебить. Он за кричал: «Скажи что-нибудь настоящее! Давай же! Почитай нам стихи. Расскажи что-нибудь настоящее!». Его лицо покраснело – от алкоголя, или от гнева, или от того и другого. Его брови были густые и черные, а лоб наморщен так, что, казалось, бровей у него нет вообще. «Скажи что-нибудь настоящее!» – продолжал кричать он, пока мне не пришлось прервать чтение. Перспектива открытой конфронтации с этим парнем меня вовсе не привлекала, и я вернулся к чтению, начав как раз со слова «журррналистика» (как его произносил Готтлиб), а Си Джей вывел его из бара. Внешне я не показал своего испуга и даже смог пошутить, когда парень оказался на улице: «Похоже, моя аудитория уменьшается». Эта фраза вызвала у аудитории нервный смешок. Только когда я закончил чтение и вышел из бара, меня охватил ужас от происшедшего. Меня напугало, что я не смог «защитить» свою книгу. Для пьяного парня в ирландском баре, у которого были другие заботы, кроме слияния маркетинга и культуры, Nobrow оказался чересчур интеллектуальным.
* * *
Ну вот, мне пора спать. Завтра у меня большой день – продвижение книги в Лос-Анджелесе. Я буду выступать в передаче «Разговор в эфире», которую ведет Ларри Ментл на радио KPCC по утрам, когда люди едут на работу, а после обеда я буду записывать интервью для телевидения с Уорреном Олни, а потом Джил Фризен, в прошлом президент A&M Records, организует вечеринку по случаю выхода моей книги в Chateau Marmont, на которую приглашены и знаменитости.
Прежде чем лечь в постель, я хочу проверить свой рейтинг на «Амазоне». Надо узнать, выросли ли продажи после выступления в Чикаго. Я захожу в интернет, включаю Netscape, выбираю из закладок страницу Nobrow и с приятным волнением жду, пока она загрузится. Вот еще один прекрасный образец ноубрау: авторы и «низкой» и «высокой» литературы следят за рейтингами – не только своими, но и друг друга, и таким образом определяют иерархию. В ожидании своей цифры продаж я чувствую, как рынок вот-вот заговорит. Вот-вот будет объявлено суждение на основании числа прибавившихся потребителей этого продукта. Что знаем мы об этих людях? Что они также приобрели «Критическую точку» Малькольма Глэдуэла и «Бобы в раю» Дэвида Брукса. Это хорошо, потому что я связан с двумя книгами, которые продаются лучше моей, но меня угнетает, что я ниже их в иерархии, тем более что я с ними знаком. На странице сказано, что покупатели моей книги также покупают оперу и DVD с фильмом «Торжество». Кроме того, на странице есть ссылка на аукцион по продаже копченого лосося. Похоже, интеллектуальная публика.
Чем привлекает рейтинг «Амазона»? Аудиторией. Это новое понятие «аудитория» теперь используется для определения того, что «хорошо». Каждый культурный продукт имеет свою аудиторию. У Эминема – своя аудитория, у Сибрука – своя. Аудитория сочувствует, она обычно желает вам добра. Она приходит на выручку в передаче «Как стать миллионером?». Но иметь свою аудиторию становится самоцелью, а не средством для достижения цели. Аудитория одобряет те формы поведения, которые не одобряет семья или общество. Это логика шоу «Как стать миллионером?» – аудитория всегда права. За исключением того, что аудитория не всегда права. Аудитория следует не традиционным эстетическим и моральным понятиям о том, что хорошо, а что плохо, а понятиям, основанным на Шуме.
Это текст или подтекст того, о чем мы говорим, когда отвечаем на вопрос интервьюера о недавнем скандале в шоу «Кто хочет выйти замуж за миллионера?», в котором медсестра Дарва Конгер в прямом эфире вышла замуж за известного мультимиллионера. К чему могут привести эти новые ценности, основанные на аудитории, заменяя старые ценности, основанные на стандартах семьи, религии и сообщества? Сейчас существуют сайты, помогающие людям, готовым на вопиющие и унизительные поступки, найти тех, кто готов заплатить за то, чтобы на это посмотреть. Вы согласны намазать себя патокой и птичьим кормом и позволить голубям есть это все с вашего тела за 300 долларов, как это сделал один человек на сайте ? Человек с Уолл-стрит разделся до трусов и ботинок за 700 долларов. Женщина танцевала на публике, имея на себе лишь лифчик и ремень, за 150 долларов, а мужчина ел собачье говно за 400 долларов. Это что, оскорбление вкуса или что-то другое – фундаментальное непонимание окружающей действительности, массовое заблуждение, которое имеет множество сторонников повсюду?
А вот и мой рейтинг. Номер… 220. Утром Nobrow был 250-м. Неплохо, но пока рынок не покупает книгу в тех количествах, на которые мы надеялись. Это похоже на погрешность рыночного вкуса. Как могли люди предпочесть моей книге 219 других книг? Но, с другой стороны, как я могу жить в ноубрау и не принимать его логики? Наверное, это коан в конце повествования.
Но завтра – Лос-Анджелес, и это город ноубрау, мой город.

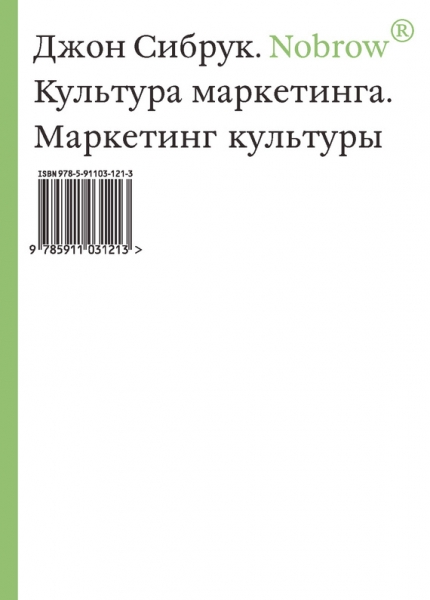

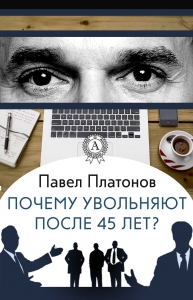

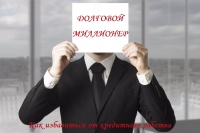

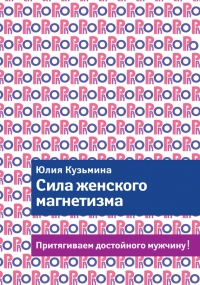

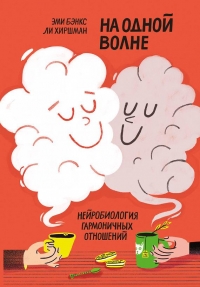

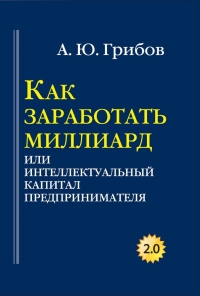


Комментарии к книге «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры», Джон Сибрук
Всего 0 комментариев